Почему сознание — это не мозг (и как это доказать)
В научном сообществе не прекращаются споры о том, что такое сознание. Нейробиологи часто отождествляют его с процессами, протекающими в человеческом мозге. Философ Антон Кузнецов объясняет, почему это слабая позиция. О «слепом зрении», иллюзиях и «аргументе зомби» — в конспекте его лекции.
Антон Кузнецов
Кандидат философских наук, младший научный сотрудник философского факультета МГУ, сотрудник Центра исследования сознания при философском факультете МГУ
Аномальный феномен
Проблема соотношения тела и сознания до сих пор не решена. Существуют разные теории сознания — теория глобального нейронного рабочего пространства (Global workspace theory, или GWT. — Прим. T&P), квантовая теория Хамероффа — Пенроуза, теория аттендированной среднеуровневой реализации сознания Принца или теория интегрированной информации. Но все это только гипотезы, в которых недостаточно разработан концептуальный аппарат. А кроме того, нам не хватает экспериментальных средств для изучения мозга и поведения человека — например, применение постулатов теории интегрированной информации на живых организмах пока невозможно из-за вычислительных и аппаратных ограничений.
А кроме того, нам не хватает экспериментальных средств для изучения мозга и поведения человека — например, применение постулатов теории интегрированной информации на живых организмах пока невозможно из-за вычислительных и аппаратных ограничений.
Сознание — аномальный феномен, непохожий на остальные феномены естественного мира. В то время как последние интерсубъективны, то есть доступны всем, к сознанию мы всегда имеем только внутренний доступ и не можем его непосредственным образом наблюдать. Одновременно с этим мы знаем, что сознание — естественное явление. Впрочем, если мы станем думать об устройстве Вселенной как о фундаментальных физических взаимодействиях, то это будет работать ровно до тех пор, пока мы не вспомним о сознании: непонятно, как в такое представление мира втискивается феномен со столь непохожими на все остальное характеристиками.
Одно из лучших определений сознания — остенсивное (определение предмета путем непосредственного показа. — Прим. T&P): все мы с вами чувствуем ментальные образы и ощущения — это и есть сознание. Когда я смотрю на какой-то предмет, в моей голове есть его образ, и этот образ тоже является моим сознанием. Важно, чтобы остенсивное определение сознания коррелировало с итоговым объяснением: когда в исследовании сознания мы получаем определения вроде «Сознание — это квантовый эффект в микротрубочках нейронов», то сложно понять, как этот эффект может стать ментальными образами.
Когда я смотрю на какой-то предмет, в моей голове есть его образ, и этот образ тоже является моим сознанием. Важно, чтобы остенсивное определение сознания коррелировало с итоговым объяснением: когда в исследовании сознания мы получаем определения вроде «Сознание — это квантовый эффект в микротрубочках нейронов», то сложно понять, как этот эффект может стать ментальными образами.
Функции есть, а сознания нет
Существует когнитивное понятие сознания. Примерами когнитивных задач, которые мы выполняем как сознательные субъекты, могут быть речь, мышление, интеграция информации в мозге и т. д. Но это определение слишком широкое: получается, если есть мышление, речь, запоминание, значит, есть и сознание; и наоборот: если нет возможности говорить, значит, и сознания нет. Часто это определение не работает. Например, у пациентов в вегетативном состоянии (которое наступает, как правило, после инсульта) есть фазы сна, они открывают глаза, у них бывает блуждающий взгляд, и родственники часто принимают это за проявление сознания, что на самом деле не так. А бывает, что когнитивных операций нет, а сознание есть.
А бывает, что когнитивных операций нет, а сознание есть.
Если в МРТ-аппарат поместить обычного человека и попросить представить, как он играет в теннис, у него произойдет возбуждение в премоторной коре. Эту же задачу поставили перед пациенткой, которая не откликалась вообще ни на что, — и увидели на МРТ такое же возбуждение в коре. Тогда женщину попросили представить, что она находится в доме и ориентируется внутри него. Потом ее начали спрашивать: «Вашего мужа зовут Чарли? Если нет, представляйте, что вы ориентируетесь в доме, если да — что вы играете в теннис». Реакция на вопросы действительно была, но ее можно было отследить только по внутренней активности мозга. Таким образом,
поведенческий тест не позволяет нам удостовериться в наличии сознания. Жесткой связи между поведением и сознанием нет.
Между сознанием и когнитивными функциями тоже нет прямой связи. В 1987 году в Канаде произошла страшная трагедия: лунатик Кеннет Паркс заснул перед телевизором, а потом «проснулся», завел машину, проехал несколько миль до дома родителей своей жены, взял монтировку и пошел убивать. Затем уехал и только на обратном пути обнаружил, что у него все руки в крови. Он позвонил в полицию и сказал: «Мне кажется, я кого-то убил». И хотя многие подозревали, что он гениальный лжец, на самом деле Кеннет Паркс — удивительный потомственный лунатик. У него не было мотива для убийства, а еще он сжимал нож за лезвие, отчего на руке у него были глубокие раны, но он ничего не чувствовал. Следствие показало, что Паркс не находился в сознании в момент убийства.
Затем уехал и только на обратном пути обнаружил, что у него все руки в крови. Он позвонил в полицию и сказал: «Мне кажется, я кого-то убил». И хотя многие подозревали, что он гениальный лжец, на самом деле Кеннет Паркс — удивительный потомственный лунатик. У него не было мотива для убийства, а еще он сжимал нож за лезвие, отчего на руке у него были глубокие раны, но он ничего не чувствовал. Следствие показало, что Паркс не находился в сознании в момент убийства.
Я сегодня видел у кого-то в руках книгу Николаса Хамфри «Пыльца души». В 1970-х Николас Хамфри, будучи аспирантом и работая в лаборатории Лоуренса Вайскранца, открыл «слепое зрение». Он наблюдал за обезьяной по имени Хелен, у которой была корковая слепота — не функционировали зрительные отделы коры головного мозга. Обезьяна всегда вела себя как слепая, но в ответ на некоторые тесты вдруг начала демонстрировать «зрячее» поведение — каким-то образом распознавала простые объекты.
Обычно нам кажется, что зрение — сознательная функция: если я вижу, значит, я осознаю. В случае «слепого зрения» пациент отрицает, что он что-то видит, однако, если его попросить угадать, чтó находится перед ним, он угадывает. Все дело в том, что у нас есть два зрительных пути: один — «сознательный» — ведет в затылочные зоны коры головного мозга, другой — более короткий — в верхний отдел коры. Если у боксера будет работать только сознательный зрительный путь, он вряд ли сможет уворачиваться от ударов — он не пропускает удары как раз благодаря этому короткому, древнему пути.
В случае «слепого зрения» пациент отрицает, что он что-то видит, однако, если его попросить угадать, чтó находится перед ним, он угадывает. Все дело в том, что у нас есть два зрительных пути: один — «сознательный» — ведет в затылочные зоны коры головного мозга, другой — более короткий — в верхний отдел коры. Если у боксера будет работать только сознательный зрительный путь, он вряд ли сможет уворачиваться от ударов — он не пропускает удары как раз благодаря этому короткому, древнему пути.
Зрительное восприятие — это когда вы можете сказать, «что» и «где», а зрительное ощущение — это когда при этом вы еще имеете ментальную картинку. Выполняется примерно одна и та же когнитивная функция распознавания объекта, но в одном случае это распознавание сознательно, а другом — нет. «Слепое зрение» — это зрительное восприятие без сознания.
Чтобы какая-то функция в мозге была сознательной, нужно, чтобы выполнение определенной когнитивной задачи сопровождалось внутренним субъективным опытом.
Именно наличие приватного опыта является ключевым компонентом, позволяющим сказать, есть сознание или нет. Это более узкое понятие называется феноменальным сознанием (phenomenal consciousness).
Трудная проблема
Если бы мне без анестезии вырывали зуб мудрости, скорее всего, я бы кричал и пытался двигать конечностями — но по этому описанию трудно сказать, чтó со мной происходит, если не знать, что я при этом испытываю жуткую боль. То есть когда я нахожусь в сознании и происходит что-то с моим телом, важно подчеркнуть: чтобы сказать, что я нахожусь в сознании, я добавляю в историю своего организма какие-то внутренние приватные характеристики.
Это подводит нас к так называемой трудной проблеме сознания (hard problem of consciousness, термин ввел Дэвид Чалмерс). Она заключается в следующем:
почему функционирование мозга сопровождается субъективными и приватными состояниями? Почему оно не происходит «в темноте»?
Нейроученому неважно, есть ли у сознательных состояний субъективная, приватная сторона: он ищет неврологическое выражение этих процессов.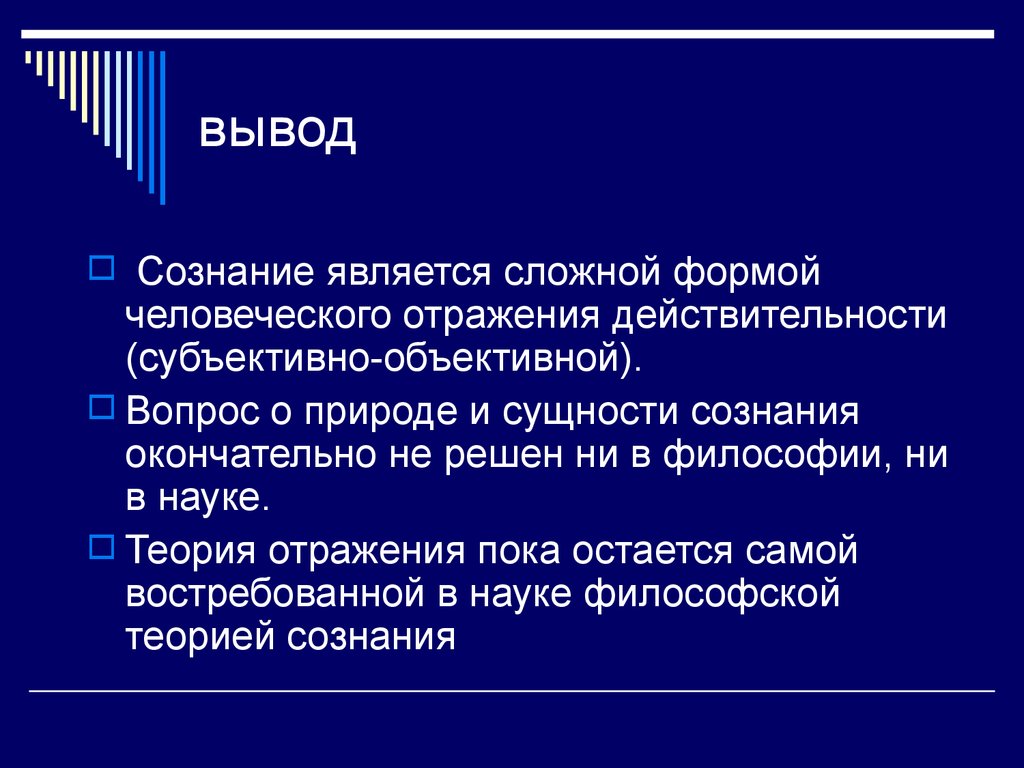 Однако даже если это неврологическое выражение найдено, оно все равно каким-то образом испытывается. Таким образом, неврологическое описание или описание сознания через мозговые, поведенческие процессы и когнитивное функционирование всегда будет неполным. Мы не можем объяснить сознание, используя стандартные методы естественных наук.
Однако даже если это неврологическое выражение найдено, оно все равно каким-то образом испытывается. Таким образом, неврологическое описание или описание сознания через мозговые, поведенческие процессы и когнитивное функционирование всегда будет неполным. Мы не можем объяснить сознание, используя стандартные методы естественных наук.
© davestrick / Giphy
Безошибочность иллюзии
Можно выделить некоторые характеристики феноменального сознания или сознания вообще: квалитативность, интенциональность, субъективность, приватность, отсутствие пространственного протяжения, невыразимость, простота, безошибочность, прямое знакомство и внутренняя природа. Таково рабочее определение сознания.
Квалитативность (качественность) — это то, каким образом вы испытываете свой внутренний субъективный опыт. Обычно это сенсорные характеристики: цвета, тактильные, вкусовые ощущения и т. д., а также эмоции.
Приватность сознательного опыта означает, что вы не видите то, как я вижу вас. Даже если в будущем изобретут средство увидеть то, чтό другой человек наблюдает в своем мозге, то все равно нельзя будет увидеть его сознание, ведь увиденное будет вашим собственным сознанием. Нейроны в мозгу можно увидеть хирургическим путем, но с сознанием это не сработает, потому что это абсолютная приватность.
Даже если в будущем изобретут средство увидеть то, чтό другой человек наблюдает в своем мозге, то все равно нельзя будет увидеть его сознание, ведь увиденное будет вашим собственным сознанием. Нейроны в мозгу можно увидеть хирургическим путем, но с сознанием это не сработает, потому что это абсолютная приватность.
Отсутствие пространственного притяжения свидетельствует о том, что, когда я смотрю на белую колонну, моя голова не увеличивается на объем этой колонны. У ментальной белой колонны нет физических параметров.
Невыразимость ведет к понятию простоты и неразложимости на другие характеристики. Некоторые понятия невозможно объяснить через более простые. Например, как объяснить, что значит «красное»? Никак. Объяснение через длину волны не считается, потому что, если начать подставлять его вместо слова «красное», значение высказываний изменится. Некоторые понятия можно выразить через другие, но в первом приближении они все кажутся невыразимыми.
Безошибочность означает: вы не можете ошибаться насчет того, что находитесь в сознании. Вы можете заблуждаться в суждениях о вещах и явлениях, вы можете не знать, чтó стоит за ментальным образом, но если вы с этим образом сталкиваетесь, значит, он существует, даже если это галлюцинация.
Вы можете заблуждаться в суждениях о вещах и явлениях, вы можете не знать, чтó стоит за ментальным образом, но если вы с этим образом сталкиваетесь, значит, он существует, даже если это галлюцинация.
И хотя не все исследователи согласны с таким рабочим определением, любой, кто занимается сознанием, так или иначе интерпретирует эти характеристики. Ведь эмпирически ответить на вопрос, что такое сознание, не получается из-за того, что мы не имеем к нему такого же доступа, как ко всем феноменам естественного мира. А от выстроенной нами эмпирической теории зависит, как мы будем работать с пациентами в тяжелом состоянии.
Сознания нет, а слово есть
Проблема сознания появилась в Новое время усилиями Рене Декарта, который разделил тело и душу по этическим основаниям: тело омрачает нас, а душа как разумное начало борется с телесными аффектами. С тех пор противопоставление души и тела как бы раскалывает мир на две независимые области.
Но ведь они взаимодействуют: когда я говорю, у меня сокращаются мышцы, двигается язык и т. д. Все это физические события, у каждого моего движения есть физическая причина. Проблема в том, что нам непонятно, как то, что не находится в пространстве, влияет на физические процессы. Таким образом, в наших представлениях о мире есть фундаментальный раскол, который нужно устранить. Самый лучший способ — «уничтожить» сознание: показать, что оно существует, но является производной физических процессов.
д. Все это физические события, у каждого моего движения есть физическая причина. Проблема в том, что нам непонятно, как то, что не находится в пространстве, влияет на физические процессы. Таким образом, в наших представлениях о мире есть фундаментальный раскол, который нужно устранить. Самый лучший способ — «уничтожить» сознание: показать, что оно существует, но является производной физических процессов.
Проблема сознания тела связана с другими большими проблемами. Это вопрос тождества личности: что делает личность одной и той же на протяжении всей жизни, несмотря на физиологические и психологические изменения организма и психики? Проблема свободы воли: являются ли наше ментальное и сознательное состояния причинами физических событий или поведения? Биоэтические вопросы и проблема искусственного интеллекта: люди мечтают о бессмертии и возможности перенести сознание на другой носитель.
Проблема сознания связана с тем, как мы понимаем причинность. В естественном мире все причинные взаимодействия носят физическую природу.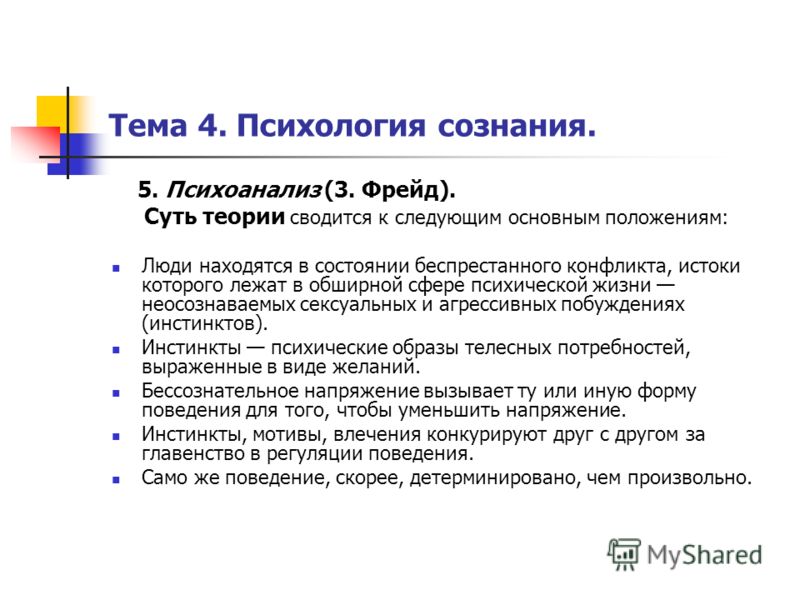 Но есть один кандидат на нефизический тип причинности — это причинность от ментального к физическому, и от физического — к поведению. Нужно понять, есть ли такой вид процессов.
Но есть один кандидат на нефизический тип причинности — это причинность от ментального к физическому, и от физического — к поведению. Нужно понять, есть ли такой вид процессов.
Нас также интересует вопрос о критериях существования. Когда я хочу понять, существует ли какой-то предмет, я могу это верифицировать: взять его в руки, например. Но в отношении сознания критерий существования не работает. Значит ли это, что сознания не существует?
Представьте, что вы видите, как бьет молния, и вы знаете, что физическая причина удара молнии — столкновение холодного и теплого погодных фронтов. Но потом вдруг добавляете, что другой причиной молнии могут быть семейные неурядицы бородатого седого мужчины атлетического телосложения, его зовут Зевс. Или, например, я могу утверждать, что за моей спиной находится синий дракон, просто вы его не видите. Ни Зевс, ни синий дракон не существуют для естественной онтологии, так как их допущение или отсутствие ничего не меняет в естественной истории. Наше сознание сильно похоже на такого синего дракона или на Зевса, поэтому мы должны объявить его несуществующим.
Наше сознание сильно похоже на такого синего дракона или на Зевса, поэтому мы должны объявить его несуществующим.
Почему мы этого не делаем? Человеческий язык переполнен ментальными терминами, у нас неимоверно развит аппарат для выражения внутренних состояний. И вдруг оказывается, что внутренних состояний нет, хотя их выражение есть. Странная ситуация. Без проблем можно отказаться от утверждения о существовании Зевса (что и было сделано), но Зевс и синий дракон тем отличаются от сознания, что последнее играет важную роль в нашей жизни. Если вернуться к примеру, когда мне выдирают зубы, то сколько меня ни убеждай, что я не испытываю боль, я все равно буду ее испытывать. Это состояние сознания, и оно достоверно. Выходит,
для сознания нет места в естественном мире, но мы не можем отказаться от его существования. Это ключевая драма в проблеме сознания тела.
Впрочем, поскольку с точки зрения естественной онтологии мы должны объявить сознание несуществующим, многие исследователи предпочитают утверждать, что сознание — это физический процесс в мозге. Можно ли тогда сказать, что сознание — это и есть мозг? Нет. Потому что, во-первых, для этого нужно продемонстрировать идеальную замену ментальных терминов на неврологические. А во-вторых, нейронные процессы невозможно верифицировать.
Можно ли тогда сказать, что сознание — это и есть мозг? Нет. Потому что, во-первых, для этого нужно продемонстрировать идеальную замену ментальных терминов на неврологические. А во-вторых, нейронные процессы невозможно верифицировать.
Аргумент зомби
Как доказать, что сознание — это не мозг? Часто для этого используют примеры внетелесного опыта. Проблема в том, что все подобные случаи не выдержали проверки. Попытки верифицировать феномен реинкарнации тоже провалились. Так что аргументом в пользу нематериальной природы сознания может быть только мысленный эксперимент. Один из них — так называемый аргумент зомби (philosophical zombie). Если все, что существует, объясняется лишь физическими проявлениями, то любой мир, тождественный нашему во всех физических отношениях, тождественен ему и во всех остальных. Представим мир, тождественный нашему, но в котором нет сознания и обитают зомби — существа, функционирующие только согласно физическим закономерностям. Если такие существа возможны, значит, человеческий организм может существовать без сознания.
Один из главных теоретиков материализма Дэниел Деннет считает, что мы и есть зомби. А защитники аргумента зомби считают как Дэвид Чалмерс: чтобы расположить сознание внутри физического мира и не объявлять его физическим, нужно изменить само понятие о таком мире, расширить его границы и показать, что наряду с фундаментальными физическими свойствами существуют еще и свойства протосознательные. Тогда сознание будет инкорпорировано в физическую реальность, но полностью физическим все-таки не будет.
Литература
Baars Bernard J. In the Theater of Consciousness. New York, NY: Oxford University Press, 1997
Owen A. Into the Gray Zone: A Neuroscientist Explores the Border Between Life and Death. Scribner, 2017
Деннет Д. Как исследовать человеческое сознание эмпирически / пер. с англ. Н.С. Юлиной // История философии. — М.: ИФ РАН, 2005. — Вып. 12.
Деннет Д. Онтологическая проблема сознания / пер. с англ. А.Л. Блинова // Аналитическая философия: Становление и развитие (антология) / сост.
 А.Ф. Грязнов. — М.: ДИК «Прогресс-Традиция», 1998. — С. 361–375.
А.Ф. Грязнов. — М.: ДИК «Прогресс-Традиция», 1998. — С. 361–375.Пенроуз Р. Тени разума: В поисках науки о сознании / Перевод с англ. А.Р. Логунова, Н.А. Зубченко. — М.: Ижевск: ИКИ, 2011
Хамфри Н. Сознание. Пыльца души. — М.: Карьера Пресс, 2014
Чалмерс Д. Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории. — М.: Либроком, 2013
Мы публикуем сокращенные записи лекций, вебинаров, подкастов — то есть устных выступлений. Мнение спикера может не совпадать с мнением редакции. Мы запрашиваем ссылки на первоисточники, но их предоставление остается на усмотрение спикера.
Читайте нас в Facebook, VK, Twitter, Instagram, Telegram (@tandp_ru) и Яндекс.Дзен.
Почему ученые не могут дать ответ на вопрос, что такое сознание
Тема сознания, с одной стороны, интересует, а с другой — разочаровывает и оставляет с чувством глубокого неудовлетворения. Откуда такая двойственность? Она связана с тем, что существует множество подходов и теорий сознания, которые накладываются на личное представление о собственном сознании.
 Когда человек слышит это слово, у него всегда есть определенные ожидания, которые, как правило, не оправдываются. Впрочем, в равной степени не оправдываются и предположения большинства ученых. Публикуем сокращенный перевод эссе научного журналиста Майкла Хэнлона, в котором он пытается понять, сможет ли наука хоть когда-нибудь разгадать загадку сознания.
Когда человек слышит это слово, у него всегда есть определенные ожидания, которые, как правило, не оправдываются. Впрочем, в равной степени не оправдываются и предположения большинства ученых. Публикуем сокращенный перевод эссе научного журналиста Майкла Хэнлона, в котором он пытается понять, сможет ли наука хоть когда-нибудь разгадать загадку сознания.Вот силуэт птицы, стоящей на дымоходе дома напротив. Вечер, солнце зашло около часа назад, и теперь небо стало злым, розово-серым; проливной дождь, который недавно закончился, грозит вернуться. Птица горда собой — она выглядит самоуверенно, сканируя мир вокруг и поворачивая голову туда-сюда. […] Но что именно здесь происходит? Каково быть этой птицей? Зачем смотреть туда-сюда? Зачем гордиться? Как могут несколько граммов белка, жира, костей и перьев быть настолько уверенными в себе, а не просто существовать, — ведь именно это и делает большая часть материи?
Вопросы старые как мир, но однозначно хорошие. Скалы не гордятся собой, а звезды не нервничают.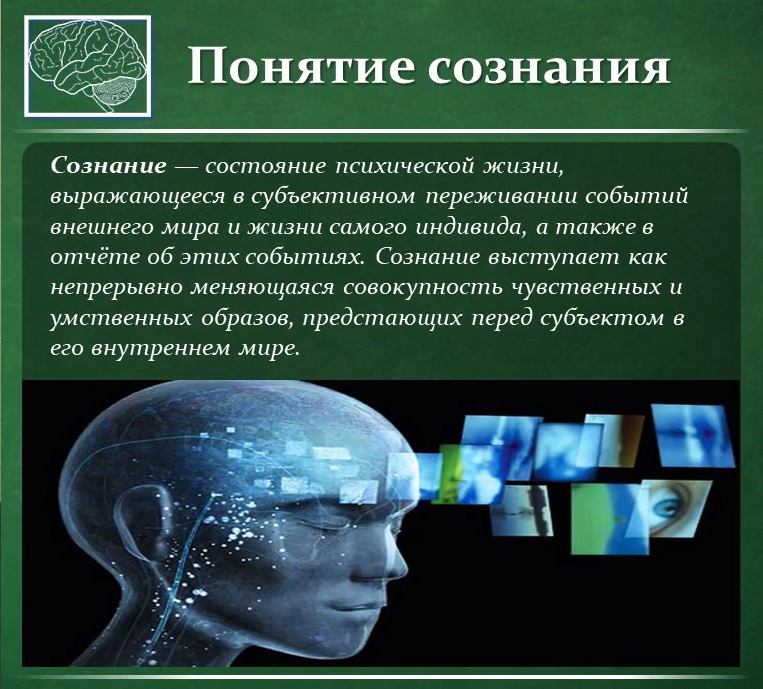
Мы живем в странном месте и в странное время, среди вещей, которые знают, что они существуют, и которые могут размышлять об этом даже самым смутным и едва уловимым, самым птичьим образом. И это осознание требует более глубокого объяснения, чем мы можем и готовы дать в настоящее время. Вопрос о том, как мозг производит ощущение субъективного опыта, является настолько неразрешимой загадкой, что один известный мне ученый даже отказывается обсуждать ее за обеденным столом. […] В течение долгого времени наука как будто избегала этой темы, однако сейчас трудная проблема сознания вновь на передовицах, и все большее число ученых полагают, что им наконец-то удалось зафиксировать его в своем поле зрения.
Кажется, что тройной удар нейробиологической, вычислительной и эволюционной артиллерии действительно обещает решить сложную проблему. Сегодняшние исследователи сознания говорят о «философском зомби»❓Гипотетическое существо, которое неотличимо от нормального человека, за исключением того, что у него отсутствует сознательный опыт, «квалиа», или способность ощущать. и теории глобального рабочего пространства, зеркальных нейронах, туннелях эго и схемах внимания, они преклоняются перед deus ex machina науки о мозге — аппаратом функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Часто их работа очень впечатляет и многое объясняет, тем не менее есть все основания сомневаться в том, что мы сумеем однажды нанести финальный, сокрушительный удар по сложной проблеме «осознания сознания».
Например, сканеры фМРТ показали, как мозг людей «загорается», когда они читают определенные слова или видят определенные изображения. Ученые в Калифорнии и других местах использовали хитроумные алгоритмы для интерпретации этих мозговых паттернов и восстановления информации об исходном стимуле — до такой степени, что смогли восстановить картинки, на которые смотрел испытуемый. Такая «электронная телепатия» даже была провозглашена окончательной смертью частной жизни (что может быть) и окном в сознание (а вот это не так).
Такая «электронная телепатия» даже была провозглашена окончательной смертью частной жизни (что может быть) и окном в сознание (а вот это не так).
Проблема в том, что, даже если мы знаем, о чем кто-то думает или что он может сделать, мы все равно не знаем, каково быть этим человеком
Гемодинамические изменения в вашей префронтальной коре могут сказать мне, что вы смотрите на картину с подсолнухами, но если бы я ударил вас молотком по голени, ваши крики точно так же сказали бы мне, что вам больно. Однако ни то, ни другое не помогает мне узнать, какую боль вы испытываете или какие чувства вызывают у вас эти подсолнухи. Фактически это все даже не говорит мне о том, действительно ли у вас есть чувства. Представим себе эдакое существо, которое ведет себя точно так же, как человек: ходит, разговаривает, убегает от опасности, совокупляется и рассказывает анекдоты, — но не имеет абсолютно никакой внутренней психической жизни. И на философском, теоретическом уровне это вполне возможно: речь о тех самых «философских зомби».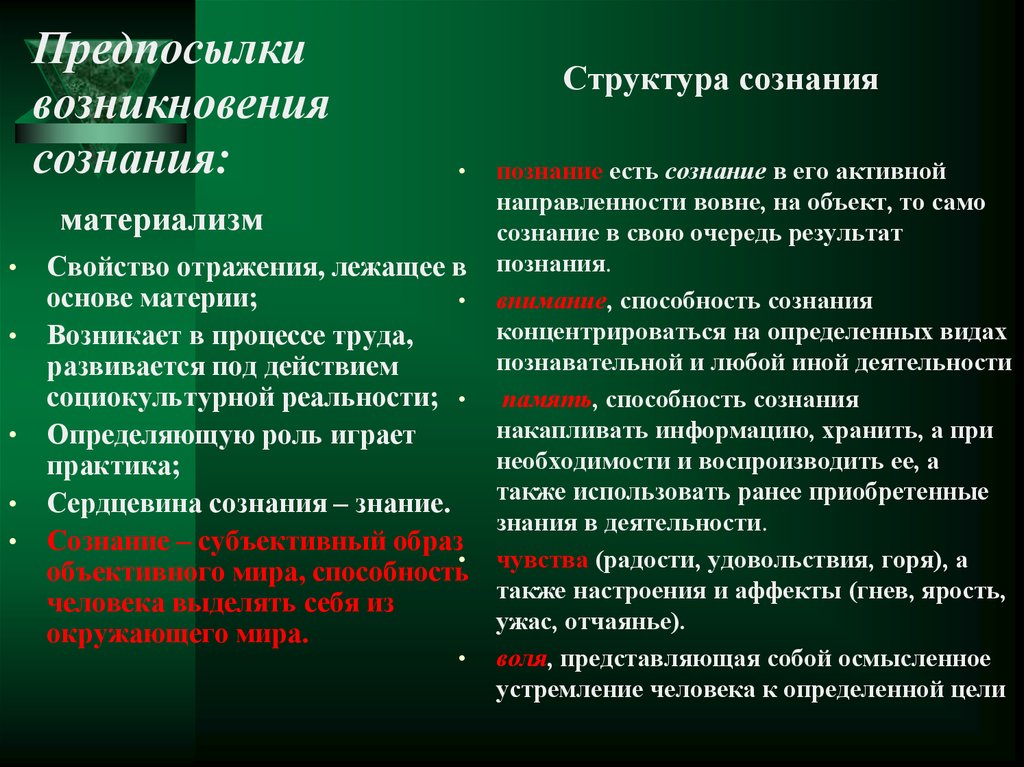
Но почему животному изначально мог потребоваться опыт переживания («квалиа», как называют его некоторые), а не только реакции? Американский психолог Дэвид Бараш резюмировал некоторые из текущих теорий, и одна из возможностей, по его словам, заключается в том, что сознание эволюционировало, чтобы позволить нам преодолеть «тиранию боли». Примитивные организмы могут быть рабами своих непосредственных потребностей, но люди обладают способностью размышлять о значении своих ощущений и, следовательно, принимать решения с определенной долей осторожности. Все это очень хорошо, за исключением того, что в бессознательном мире, очевидно, боли просто не существует, поэтому трудно понять, как необходимость избегать ее могла привести к возникновению сознания.
Тем не менее, несмотря на такие препятствия, все больше укореняется идея, что сознание далеко не так таинственно: оно сложное, да, и не до конца понятое, но в итоге это всего лишь еще один биологический процесс, который, если изучать его немного больше, скоро проделает тот путь, который уже прошли ДНК, эволюция, кровообращение и биохимия фотосинтеза.
Дэниел Бор, когнитивный нейробиолог из Университета Сассекса, говорит о «глобальном нейрональном рабочем пространстве» и утверждает, что сознание возникает в «префронтальной и теменной коре». Его работа является своего рода усовершенствованием теории глобального рабочего пространства,❓Теория информационной сети, согласно которой любая информация может быть связана с любой другой информацией. разработанной голландским нейробиологом Бернардом Баарсом. В обеих схемах обоих исследователей идея состоит в том, чтобы объединить сознательные переживания с нейронными событиями и составить отчет о том месте, которое сознание занимает в работе мозга. Согласно Баарсу, то, что мы называем сознанием, является своего рода «центром внимания» на карте работы нашей памяти, внутренней областью, в которой мы собираем повествование о всей нашей жизни. В том же духе рассуждает и Майкл Грациано из Принстонского университета, который предполагает, что сознание эволюционировало как способ мозга отслеживать собственное состояние внимания, позволяя тем самым понимать как себя, так и мозг других людей.
В дело вступают и ИТ-специалисты: американский футуролог Рэй Курцвейл считает, что примерно через 20 лет или даже чуть меньше компьютеры станут сознательными и захватят мир. А в Лозанне, Швейцария, нейробиологу Генри Маркраму было выдано несколько сотен миллионов евро на реконструирование сначала крысиного, а затем человеческого мозга до молекулярного уровня и дублирования активности нейронов в компьютере — так называемый проект Blue Brain. Когда я посетил лабораторию Маркрама пару лет назад, он был уверен, что моделирование чего-то столь сложного, как человеческий разум, — это всего лишь вопрос наличия лучших компьютеров на свете и большего количества денег.
Вероятно, это так, однако, даже если проекту Маркрама удастся воспроизвести мимолетные моменты крысиного сознания (что, я допускаю, возможно), мы все равно не узнаем, как оно работает
Во-первых, как сказал философ Джон Серл, сознательный опыт не подлежит обсуждению: «Если вам сознательно кажется, что вы сознательны, значит, вы сознательны», — и с этим трудно спорить. Более того, опыт сознания может быть экстремальным. Когда вас попросят перечислить самые жестокие явления природы, вы можете указать на космологические катаклизмы вроде рождения сверхновой звезды или гамма-всплеска. И тем не менее все это не имеет значения, как не имеет значения скатывающийся с холма валун, пока он кого-нибудь не заденет.
Более того, опыт сознания может быть экстремальным. Когда вас попросят перечислить самые жестокие явления природы, вы можете указать на космологические катаклизмы вроде рождения сверхновой звезды или гамма-всплеска. И тем не менее все это не имеет значения, как не имеет значения скатывающийся с холма валун, пока он кого-нибудь не заденет.
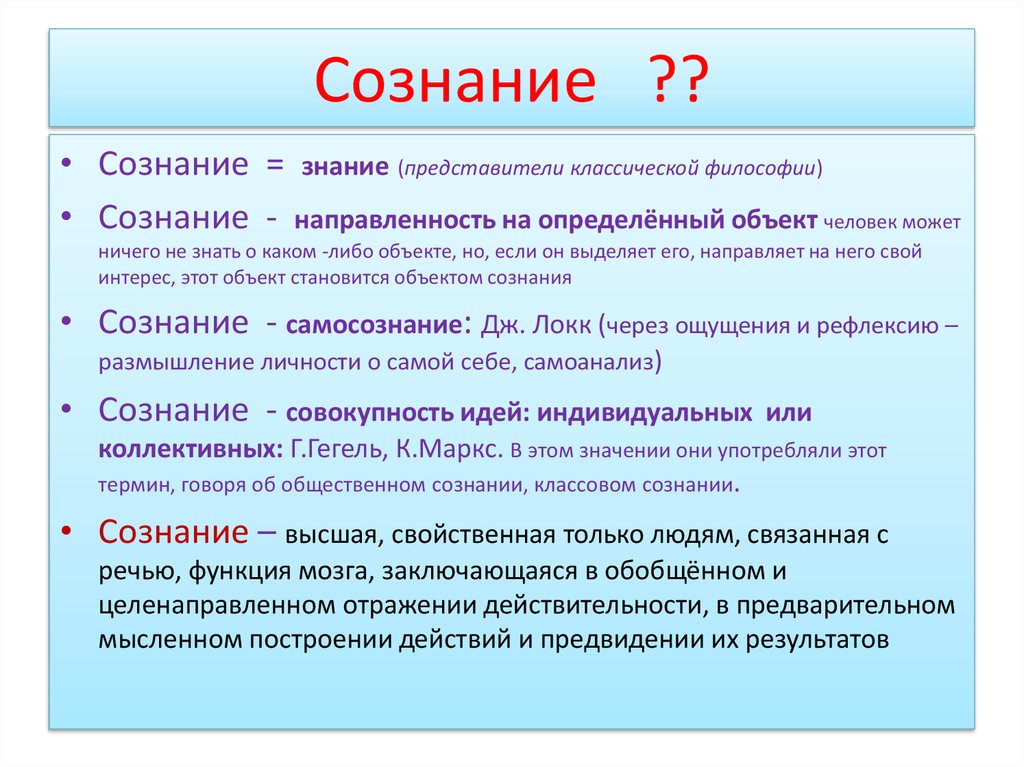
Хотя мы смотрим на вещи с этой возвышенной философской точки зрения, стоит отметить, что, по-видимому, существует довольно ограниченный диапазон основных вариантов природы сознания. Вы можете, например, считать, что это некое магическое поле, душа, которая приходит как дополнение к телу, как спутниковая навигационная система в машине, — это традиционное представление о «духе в машине» картезианского дуализма. Я предполагаю, что это именно то, как большинство людей думали о сознании на протяжении веков, — многие думают так же до сих пор. Однако в научных кругах дуализм стал чрезвычайно непопулярным. Проблема в том, что это поле еще никто никогда не видел — как оно работает и, что еще более важно, как оно взаимодействует с «мыслящим мясом» мозга? Мы не видим передачи энергии. Мы не можем обнаружить душу.
Если вы не верите в магические поля, вы не являетесь дуалистом в традиционном значении этого слова и велика вероятность того, что вы своего рода материалист. […] Убежденные материалисты считают, что сознание возникает в результате чисто физических процессов — работы нейронов, синапсов и так далее. Но в этом лагере есть и другие подразделения.
Но в этом лагере есть и другие подразделения.
Некоторые люди принимают материализм, но думают, что в биологических нервных клетках есть что-то, что дает им преимущество перед, скажем, силиконовыми чипами. Другие подозревают, что явная странность квантового мира должна иметь какое-то отношение к решению сложной проблемы сознания. Очевидный и жуткий «эффект наблюдателя» как бы намекает на то, что фундаментальная, но скрытая реальность лежит в основе всего нашего мира… Кто знает? Может быть, это действительно так и именно в ней живет сознание. Наконец, Роджер Пенроуз, физик из Оксфордского университета, считает, что сознание возникает в результате таинственных квантовых эффектов в ткани мозга. Другими словами, он верит не в волшебные поля, а в волшебное «мясо». Впрочем, похоже, пока что все доказательства играют против него.
Философ Джон Серл не верит в волшебное «мясо», но предполагает, что оно важно. Он биолог-натуралист, который считает, что сознание возникает из сложных нейронных процессов, которые (в настоящее время) не могут быть смоделированы с помощью машины. Еще есть такие исследователи, как философ Дэниел Деннетт, который говорит, что проблема разума и тела — это, по сути, семантическая ошибка. Наконец, есть архиэлиминативисты, которые, похоже, полностью отрицают существование ментального мира. Их взгляды полезны, но безумны.
Еще есть такие исследователи, как философ Дэниел Деннетт, который говорит, что проблема разума и тела — это, по сути, семантическая ошибка. Наконец, есть архиэлиминативисты, которые, похоже, полностью отрицают существование ментального мира. Их взгляды полезны, но безумны.
Итак, многие умные люди верят во все вышеперечисленное, но все теории не могут быть правильными одновременно (хотя все они могут быть ошибочны)
[…] Если мы не верим в волшебные поля и волшебное «мясо», мы должны придерживаться функционалистского подхода. Это, если исходить из некоторых правдоподобных предположений, означает, что мы можем создать из практически чего угодно машину, которая думает, чувствует и наслаждается вещами. […] Если мозг представляет собой классический компьютер — универсальную машину Тьюринга, если использовать жаргон, — мы могли бы создать сознание, просто запустив нужную программу на аналитической машине Чарльза Бэббиджа, созданной еще в XIX веке. И даже если мозг — это не классический компьютер, у нас все равно есть варианты. Каким бы сложным он ни был, мозг, предположительно, просто является физическим объектом, и, согласно тезису Черча — Тьюринга — Дойча 1985 года, квантовый компьютер должен иметь возможность моделировать любой физический процесс с любой степенью детализации. Итак, выходит, что все, что нам нужно для моделирования мозга, — это квантовый компьютер.
Каким бы сложным он ни был, мозг, предположительно, просто является физическим объектом, и, согласно тезису Черча — Тьюринга — Дойча 1985 года, квантовый компьютер должен иметь возможность моделировать любой физический процесс с любой степенью детализации. Итак, выходит, что все, что нам нужно для моделирования мозга, — это квантовый компьютер.
Но что потом? Потом начинается самое интересное. Ведь если триллион шестеренок можно сложить в машину, которая способна вызвать и испытывать, скажем, ощущение от поедания груши, должны ли все ее винтики вращаться с определенной скоростью? Должны ли они находиться в одном и том же месте в одно и то же время? Можем ли мы заменить один винтик? Являются ли сознательными сами винтики или их действия? Может ли действие быть сознательным? Немецкий философ Готфрид Лейбниц задал большую часть этих вопросов еще 300 лет назад, и мы до сих пор не ответили ни на один из них.
Тем не менее похоже, что все согласны с тем, что мы должны избегать слишком активного использования «магического» компонента в вопросе сознания
[…] Почти четверть века назад Дэниел Деннет писал: «Человеческое сознание — это чуть ли не последняя сохранившаяся тайна». Несколько лет спустя Чалмерс добавил: «[Это] может оказаться самым большим препятствием на пути к научному пониманию Вселенной». Они оба были правы тогда, и, несмотря на огромный научный прогресс, случившийся с тех пор, они правы и сегодня. Я не думаю, что эволюционные объяснения сознания, которые в настоящее время ходят кругами, приведут нас хоть куда-нибудь, ведь все эти объяснения касаются не самой сложной проблемы, а «легких» проблем, которые вращаются вокруг нее, как рой планет вокруг звезды. Очарование трудной проблемы состоит в том, что на сегодняшний день она полностью и окончательно победила науку. Мы знаем, как работают гены, мы (вероятно) нашли бозон Хиггса, и мы понимаем погоду на Юпитере лучше, чем то, что происходит в наших головах.
Несколько лет спустя Чалмерс добавил: «[Это] может оказаться самым большим препятствием на пути к научному пониманию Вселенной». Они оба были правы тогда, и, несмотря на огромный научный прогресс, случившийся с тех пор, они правы и сегодня. Я не думаю, что эволюционные объяснения сознания, которые в настоящее время ходят кругами, приведут нас хоть куда-нибудь, ведь все эти объяснения касаются не самой сложной проблемы, а «легких» проблем, которые вращаются вокруг нее, как рой планет вокруг звезды. Очарование трудной проблемы состоит в том, что на сегодняшний день она полностью и окончательно победила науку. Мы знаем, как работают гены, мы (вероятно) нашли бозон Хиггса, и мы понимаем погоду на Юпитере лучше, чем то, что происходит в наших головах.
На самом деле сознание настолько странно и плохо понимается, что мы можем позволить себе дикие спекуляции, которые были бы смешны в других областях. Мы можем спросить, например, имеет ли какое-либо отношение к этому вопросу наша все более загадочная неспособность обнаружить разумную инопланетную жизнь. Мы также можем предположить, что именно сознание порождает физический мир, а не наоборот: еще британский физик XX века Джеймс Хопвуд Джинс предположил, что Вселенная может быть «больше похожа на великую мысль, чем на великую машину». Идеалистические представления продолжают проникать и в современную физику, предлагая идею о том, что разум наблюдателя каким-то образом является фундаментальным в квантовом измерении и странным в, казалось бы, субъективной природе самого времени, как размышлял британский физик Джулиан Барбур.
Мы также можем предположить, что именно сознание порождает физический мир, а не наоборот: еще британский физик XX века Джеймс Хопвуд Джинс предположил, что Вселенная может быть «больше похожа на великую мысль, чем на великую машину». Идеалистические представления продолжают проникать и в современную физику, предлагая идею о том, что разум наблюдателя каким-то образом является фундаментальным в квантовом измерении и странным в, казалось бы, субъективной природе самого времени, как размышлял британский физик Джулиан Барбур.
После того как вы примете тот факт, что чувства и переживания могут быть совершенно независимы от времени и пространства, вы можете взглянуть на свои предположения о том, кто вы, где и когда, со смутным чувством беспокойства. Я не знаю ответа на сложный вопрос сознания. Никто не знает. […] Но пока мы не овладеем собственным разумом, мы можем подозревать все что угодно — это сложно, но мы не должны прекращать попытки. Голова той птицы, стоящей на крыше, таит в себе больше загадок, чем будет раскрыто нашими самыми большими телескопами.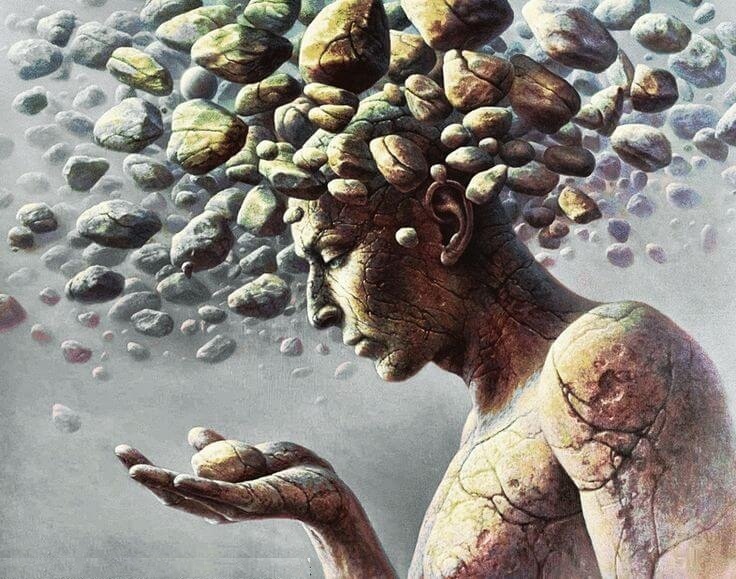
Директор по продукту «Теории и практики», философ и нейропсихолог по образованию, работала над проектами в области цифровой медицины
Когда начинаешь углубляться в тему «Мозг и сознание», обычно очень сложно сориентироваться, потому что последние исследования — это большой поток совершенно противоположных подходов от разных школ, направлений и наук. Я бы хотела дополнить эту статью с методической точки зрения, чтобы сформировалась некоторая системность в изучении данного вопроса.
Безусловно, изучение сознания — междисциплинарная область, это направление по определению развивается на стыке биологических, компьютерных, философских и других наук. Но наиболее системно и с созданием определенной доказательной базы в этом продвинулись нейробиология, нейропсихология и два направления в философии — философия сознания и нейрофилософия. Я не добавляю в этот набор исследования в области искусственного интеллекта, потому что основные методы и понятийный аппарат в ИИ берется из направлений, перечисленных выше, и уже к этому добавляется математика. Особенно я хочу выделить нейропсихологию — науку об изучении высших психических функций человека, к которым относится, собственно, и сознание. Эта наука прикладная, со сформированными методами исследования и практикой. Так сложилось, что многое в ней, даже фактически ее создание, было сделано русскими (советскими) учеными, поэтому в статье выше нейропсихологические подходы не особенно представлены.
Особенно я хочу выделить нейропсихологию — науку об изучении высших психических функций человека, к которым относится, собственно, и сознание. Эта наука прикладная, со сформированными методами исследования и практикой. Так сложилось, что многое в ней, даже фактически ее создание, было сделано русскими (советскими) учеными, поэтому в статье выше нейропсихологические подходы не особенно представлены.
Основатель нейропсихологии Александр Романович Лурия как раз разработал действенные методы классификации когнитивных функций человека, что и сейчас позволяет, возможно, ближе подойти к декомпозиции проблемы «что такое сознание». В частности, в противовес функционализму и локализационизму, когда мы пытаемся найти в мозге определенные участки, отвечающие за чувства или сознание, он выделил три функциональных блока мозга: энергетический, блок приема и обработки информации и блок программирования, регуляции и контроля. К каждому блоку относятся определенные части мозга, но при этом в обслуживании определенной функции они взаимодействуют друг с другом и заменяемы, что соответствует модному слову «нейропластичность» и позволяет взглянуть на проблему сознания шире.
С одной стороны, исследование мозга за последние годы шагнуло вперед на космическую дистанцию, с другой стороны, это пока не очень существенно приблизило нас к пониманию того, что такое сознание и как оно работает. Приведу забавный пример: ученые из университета British Columbia в 2013 году объявили, что за принятие решений у нас в мозге отвечает маленькая часть из промежуточного мозга — lateral habenula, или латеральное ядро поводка. Раньше думали, что «хабенула» отвечает за депрессию, потому что, когда при глубокой шоковой терапии у тяжело депрессивных пациентов lateral habenula «вырубали» электродами, пациенты сразу начинали чувствовать себя лучше.
Так вот, в экспериментах на крысах оказалось, что, когда им предлагалось принять то и или иное решение, связанное с получением награды сейчас или позже (конечно же, большинство крыс, как и людей, предпочитают награду сейчас), и при этом ученые также «вырубали» латеральное ядро поводка, животные начинали принимать решения абсолютно поровну, случайно. То есть по итогу показывали, что они не могут принять решение, им вообще все равно, а значит, эта область мозга важна в принятии решений. Похоже, добавляют ученые, что те депрессивные пациенты, упомянутые выше, на самом деле не чувствовали себя счастливее, им просто становилось все равно.
То есть по итогу показывали, что они не могут принять решение, им вообще все равно, а значит, эта область мозга важна в принятии решений. Похоже, добавляют ученые, что те депрессивные пациенты, упомянутые выше, на самом деле не чувствовали себя счастливее, им просто становилось все равно.
Чем хорош этот пример? Пока что мы лишь пытаемся найти «кнопку» — и этим всерьез занимается наука, — способную объяснить сложные психические явления. Но на самом деле пока что мы изучаем мозг как сложный аппарат без инструкции и еще далеки от того, чтобы подкрепить более серьезные философские исследования сознания прикладными исследованиями. Тем более что за рамками такого подхода еще остается «культурологический тезаурус» человека, который тоже важен для формирования сознания и определенным маршрутом чертит наши нейронные связи.
Индивидуальное сознание человека — феномен сочетания в одном органе совершенно разных факторов: и отвечающей за энергию лимбической системы, сформированной не только у человека, но и у млекопитающих, и префронтальной коры головного мозга, отвечающей за программирование и контроль. И я очень рекомендую всем интересующимся проблемой сознания изучить классические труды по нейропсихологии, потому что это поможет систематизировать знания и даст правильный понятийный аппарат.
И я очень рекомендую всем интересующимся проблемой сознания изучить классические труды по нейропсихологии, потому что это поможет систематизировать знания и даст правильный понятийный аппарат.
простые объяснения и интересные факты
У человека нет ни крыльев, ни быстрых ног, ни страшных зубов и когтей. Главное, что нам досталось от природы для выживания, это уникальный психический феномен – сознание. Именно оно позволяет человеку ощутить себя отдельной личностью. Кажется, что оно было с нами всегда… Но как устроено сознание? Как работают его главные механизмы?
Сергей Мац
Если мы, люди, имеем развитую психику, сознание, интеллект, то все это должно иметь какое-то эволюционное значение. Иначе естественный отбор просто не позволил бы развиться всем этим феноменам. У Homo sapiens есть мозг, масса которого составляет около 2% общей массы тела, но это невероятно энергоемкий орган, забирающий примерно четверть всей потребляемой организмом энергии.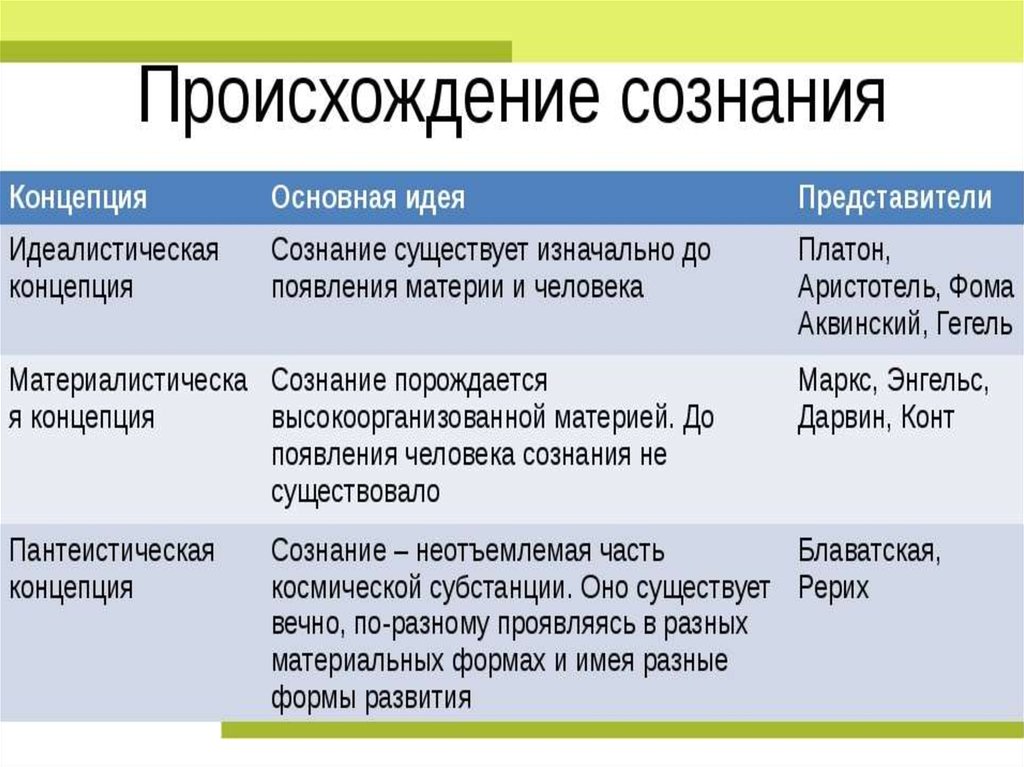 Зачем нам такое сложное и прожорливое устройствои как на самом деле работает наше сознание? Ведь очевидно, что в животном мире есть немало существ, которые не обладают развитой психикой, а при этом прекрасно приспособлены и пережили уже не одну геологическую эпоху.Взять, к примеру, иглокожих и как работает их сознание. Морскую звезду можно разрубить пополам, и из частей вырастет две морские звезды. Мы о таком могли бы только мечтать — это же почти бессмертие. А насекомые решают проблему приспособления иначе: они очень быстро меняют поколения, эффективно манипулируя своим геномом. Отдельная особь может жить всего несколько часов, зато все новые и новые организмы позволяют популяции в целом прекрасно приспосабливаться к изменившимся условиям.
Зачем нам такое сложное и прожорливое устройствои как на самом деле работает наше сознание? Ведь очевидно, что в животном мире есть немало существ, которые не обладают развитой психикой, а при этом прекрасно приспособлены и пережили уже не одну геологическую эпоху.Взять, к примеру, иглокожих и как работает их сознание. Морскую звезду можно разрубить пополам, и из частей вырастет две морские звезды. Мы о таком могли бы только мечтать — это же почти бессмертие. А насекомые решают проблему приспособления иначе: они очень быстро меняют поколения, эффективно манипулируя своим геномом. Отдельная особь может жить всего несколько часов, зато все новые и новые организмы позволяют популяции в целом прекрасно приспосабливаться к изменившимся условиям.
Величайшая машина в мире
Для человека подобное невозможно. Наш организм значительно сложнее организма мухи или мотылька, он растет и развивается долгие годы, и это слишком ценный ресурс, чтобы «транжирить» его так, как делают насекомые. Конечно, смена поколений тоже играет в жизни человечества определенную эволюционную роль — для этого и существует механизм старения, но наша сила как популяции в другом.Преимущество, которое необходимо нашему долго растущему и долго живущему телу — умение быстро анализировать и адаптироваться — от него в частности зависит то, как работает человеческое сознание. Человек может мгновенно оценить изменившуюся ситуацию и придумать, как к ней приспособиться, оставаясь при этом живым и здоровым. Всё это удается нам именно благодаря сознанию.По выражению известного российского нейрофизиолога, академика Натальи Бехтеревой, «мозг — величайшая машина, которая умеет перерабатывать реальное в идеальное». Это означает, что важнейшее свойство человеческого сознания — умение создавать и хранить внутри себя картину окружающего мира. Польза от этого умения колоссальная. Встречаясь с каким-то явлением или проблемой, мы не должны решать или осмысливать их с нуля — нам достаточно лишь сопоставить новую информацию с тем представлением о мире, которое у нас уже сложилось.
Конечно, смена поколений тоже играет в жизни человечества определенную эволюционную роль — для этого и существует механизм старения, но наша сила как популяции в другом.Преимущество, которое необходимо нашему долго растущему и долго живущему телу — умение быстро анализировать и адаптироваться — от него в частности зависит то, как работает человеческое сознание. Человек может мгновенно оценить изменившуюся ситуацию и придумать, как к ней приспособиться, оставаясь при этом живым и здоровым. Всё это удается нам именно благодаря сознанию.По выражению известного российского нейрофизиолога, академика Натальи Бехтеревой, «мозг — величайшая машина, которая умеет перерабатывать реальное в идеальное». Это означает, что важнейшее свойство человеческого сознания — умение создавать и хранить внутри себя картину окружающего мира. Польза от этого умения колоссальная. Встречаясь с каким-то явлением или проблемой, мы не должны решать или осмысливать их с нуля — нам достаточно лишь сопоставить новую информацию с тем представлением о мире, которое у нас уже сложилось.
История развития человека и того, как устроено человеческое сознание, от практически нулевой психики в младенчестве до многообразного опыта зрелой личности — это постоянное накопление адаптационной информации, дополнение и исправление индивидуальной картины мира. А деятельность человеческого сознания есть не что иное, как непрекращающаяся фильтрация новой информации через приобретенный опыт. Надо сказать, что русское слово «сознание» очень удачно отражает суть явления: сознание — это жизнь «со знанием». Для этого эволюция наделила человека уникальным вычислительным ресурсом — мозгом, который позволяет непрерывно сопоставлять новую реальность с ранее полученным опытом.
По выражению известного российского нейрофизиолога, академика Натальи Бехтеревой, «Мозг – величайшая машина, которая умеет перерабатывать реальное в идеальное».
Есть ли недостатки у работы человеческого сознания? Разумеется, и главный из них — неполнота и неточность любой персональной картины мира. Если, например, мужчине встречается блондинка, то, опираясь на личный опыт, он может решить, что блондинки слишком легкомысленны или меркантильны, и отказаться от серьезных отношений. Но, может быть, все дело лишь в том, что ему лично когда-то не повезло с конкретной блондинкой, а потому его опыт носит нетипичный характер. Такое происходит сплошь и рядом, причем порой накопление фактов, противоречащих индивидуальной картине мира, может привести к тому, что психологи называют когнитивным диссонансом. В момент диссонанса прежняя картина мира рушится, и на ее месте возникает новая, что тоже является частью нашего адаптивного механизма.
Если, например, мужчине встречается блондинка, то, опираясь на личный опыт, он может решить, что блондинки слишком легкомысленны или меркантильны, и отказаться от серьезных отношений. Но, может быть, все дело лишь в том, что ему лично когда-то не повезло с конкретной блондинкой, а потому его опыт носит нетипичный характер. Такое происходит сплошь и рядом, причем порой накопление фактов, противоречащих индивидуальной картине мира, может привести к тому, что психологи называют когнитивным диссонансом. В момент диссонанса прежняя картина мира рушится, и на ее месте возникает новая, что тоже является частью нашего адаптивного механизма.
Бездны бессознательного
Другой недостаток того, как устроено наше сознание, заключается в том, что оно не всемогуще, хотя и создает нам иллюзию (но это только иллюзия!), будто пропускает через себя 100% всей новой информации. Однако такой физической возможности у него нет. Сознание — эволюционно очень новый инструмент, который в какой-то момент был надстроен над неосознающей частью психики. У каких существ сознание появилось впервые, и обладают ли сознанием те или иные животные — отдельный, очень интересный и далекий от понимания вопрос. К сожалению, до сих пор не существует научного инструмента общения с животными — будь то кошки, собаки или дельфины, а потому выяснить, в какой степени они обладают сознанием, мы не можем.
У каких существ сознание появилось впервые, и обладают ли сознанием те или иные животные — отдельный, очень интересный и далекий от понимания вопрос. К сожалению, до сих пор не существует научного инструмента общения с животными — будь то кошки, собаки или дельфины, а потому выяснить, в какой степени они обладают сознанием, мы не можем.
При этом бессознательное, то есть ресурсы, на которых работает человеческое сознание, находящиеся за пределами понимания, у человека сохранились в полном объеме. Оценить размеры бессознательного или проконтролировать его содержимое невозможно — сознание не дает нам туда доступа. Принято считать, что внесознательное безгранично, и этот психический ресурс приходит на помощь в ситуациях, когда ресурсов сознания не хватает. Помощь дается нам в виде процессов, результаты которых мы замечаем, а сами процессы — нет. Хрестоматийный пример — периодическая таблица элементов, которую Дмитрий Менделеев после долгих мучительных размышлений якобы увидел во сне. Даже если допустить, что это всего лишь красивая легенда, она неплохо иллюстрирует то, что каждый из нас знает из личного опыта. Решение, которое долго не давалось, порой вдруг приходит как бы ниоткуда, и это довольно точно иллюстрирует то, как работает веловеческое сознание. Иногда — из царства сна. Однако работу бессознательного мы не только не можем увидеть, но даже не можем гарантировать его подключение. Этот архаический инструмент усилиям нашей воли, как уже сказано, не подчиняется.
Даже если допустить, что это всего лишь красивая легенда, она неплохо иллюстрирует то, что каждый из нас знает из личного опыта. Решение, которое долго не давалось, порой вдруг приходит как бы ниоткуда, и это довольно точно иллюстрирует то, как работает веловеческое сознание. Иногда — из царства сна. Однако работу бессознательного мы не только не можем увидеть, но даже не можем гарантировать его подключение. Этот архаический инструмент усилиям нашей воли, как уже сказано, не подчиняется.
Где носкам место?
С другой стороны, иной резервный механизм, который тоже участвует в работе человеческого сознания, не настолько темный и недоступный, как бессознательное, у человеческого сознания тоже имеется. Этот механизм в психологии иногда ассоциируется с понятием «характер», а работает он так. Когда субъект сопоставляет входящую информацию со своей картиной мира, он первым делом хочет получить ответ на вопрос: «Что мне делать в текущей ситуации?» И если конкретного опыта сознанию не хватает, начинается поиск ответа на вопрос: «А что люди вообще делают в таких ситуациях?» Вопрос этот фактически адресуется в детство, к родительскому воспитанию. Мама с папой дают детям набор поведенческих шаблонов (паттернов) на тему «что такое хорошо и что такое плохо», но воспитание у всех разное, и паттерны для одного и того же случая у разных людей могут существенно отличаться. Например, паттерн мужа гласит, что носки можно бросить посреди комнаты, а паттерн жены — что грязное белье следует немедленно нести в стиральную машину. У этого конфликта возможны два исхода.В одном случае жена обратится к мужу с просьбой не разбрасывать носки, и тот, возможно, согласится с супругой. При том, как работает человеческое сознание, один из двух людей оценит ситуацию «здесь и сейчас», и компромисс станет результатом быстрой адаптации. В другом случае, если муж «упрется», жена, скорее всего, примется гневно упрекать его словами вроде: «Это свинство! Так никто не делает!». «Никто не делает» или «делают все» — это и есть «запасной аэродром» сознания, его резервная система. Такая система играет важную адаптационную роль — она позволяет не передавать задачу внесознательному (там над ней контроля не будет совсем), а оставить ее в сознании.
Мама с папой дают детям набор поведенческих шаблонов (паттернов) на тему «что такое хорошо и что такое плохо», но воспитание у всех разное, и паттерны для одного и того же случая у разных людей могут существенно отличаться. Например, паттерн мужа гласит, что носки можно бросить посреди комнаты, а паттерн жены — что грязное белье следует немедленно нести в стиральную машину. У этого конфликта возможны два исхода.В одном случае жена обратится к мужу с просьбой не разбрасывать носки, и тот, возможно, согласится с супругой. При том, как работает человеческое сознание, один из двух людей оценит ситуацию «здесь и сейчас», и компромисс станет результатом быстрой адаптации. В другом случае, если муж «упрется», жена, скорее всего, примется гневно упрекать его словами вроде: «Это свинство! Так никто не делает!». «Никто не делает» или «делают все» — это и есть «запасной аэродром» сознания, его резервная система. Такая система играет важную адаптационную роль — она позволяет не передавать задачу внесознательному (там над ней контроля не будет совсем), а оставить ее в сознании.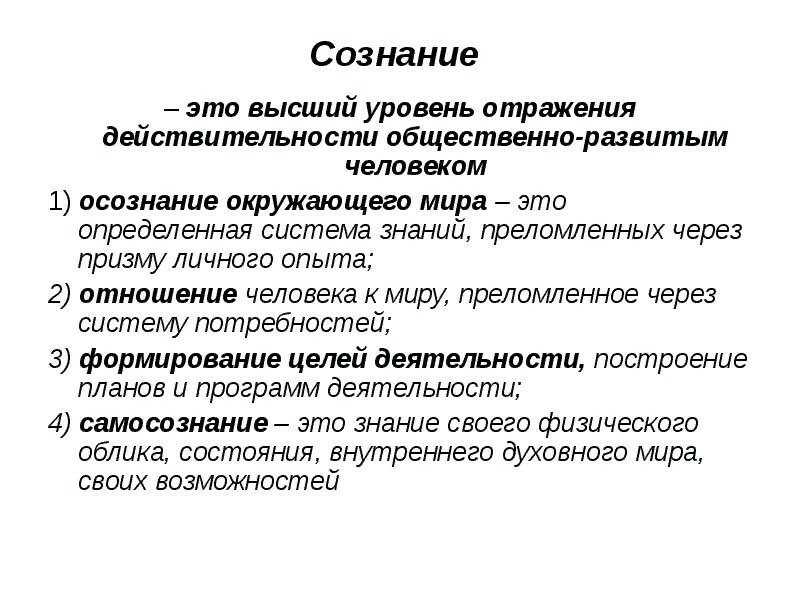 К сожалению, в этот момент до некоторой степени выключается наиболее выгодный адаптационный режим — анализ непосредственной реальности.
К сожалению, в этот момент до некоторой степени выключается наиболее выгодный адаптационный режим — анализ непосредственной реальности.
Зеркало для героя
Итак, важнейшее эволюционное преимущество человека и того, как работает наше сознание — умение постоянно приводить свою внутреннюю картину мира в соответствие с реальностью и таким образом прогнозировать будущие события и адаптироваться к ним. Но как оценить правильность адаптации? Для этого у нас есть устройство обратной связи — система эмоционального реагирования, благодаря которой нам что-то приятно и что-то неприятно. Если нам хорошо, то ничего менять не надо. Если нам плохо, мы переживаем, а значит, есть стимул менять адаптивную модель. Люди с ослабленной обратной связью — это шизоиды, у которых мыслей полно, но они более чем странные.
Этим людям совершенно все равно, как приложить собственные разнообразные мысли к реальности, и это тоже отличная иллюстрация того, как работает человеческое созанание: им это не очень интересно, так как отсутствует положительная обратная связь. Есть, напротив, люди истероидного склада, у которых могучая обратная связь. Они постоянно находятся под воздействием эмоций, только адаптивной модели подолгу не меняют. Поступают в вуз и не учатся. Начинают бизнес — и разваливают его своим бездействием. Истероидов можно сравнить со сломанными часами, которые лишь два раза в сутки показывают точное время. Ну а шизоиды — это часы, у которых стрелки беспорядочно вращаются в разные стороны.
Есть, напротив, люди истероидного склада, у которых могучая обратная связь. Они постоянно находятся под воздействием эмоций, только адаптивной модели подолгу не меняют. Поступают в вуз и не учатся. Начинают бизнес — и разваливают его своим бездействием. Истероидов можно сравнить со сломанными часами, которые лишь два раза в сутки показывают точное время. Ну а шизоиды — это часы, у которых стрелки беспорядочно вращаются в разные стороны.
С работой сознания связана и другая эволюционная задача. Оно не только помогает отдельному человеку быстро адаптироваться к изменившимся обстоятельствам, но и работает на выживание человечества в целом. У всех нас есть своя внутренняя картина мира, в какой-то степени отражающая реальность. Но у кого-то она обязательно будет более адекватной, и мы удивляемся, как этот человек – назовем его гением — понял то, чего не смогли понять другие. Чем больше тех, кто увидит ситуацию наиболее адекватно, тем больше шансов выжить у общности в целом. Поэтому разнообразие человеческих сознаний – это тоже очень важно с точки зрения эволюционного процесса.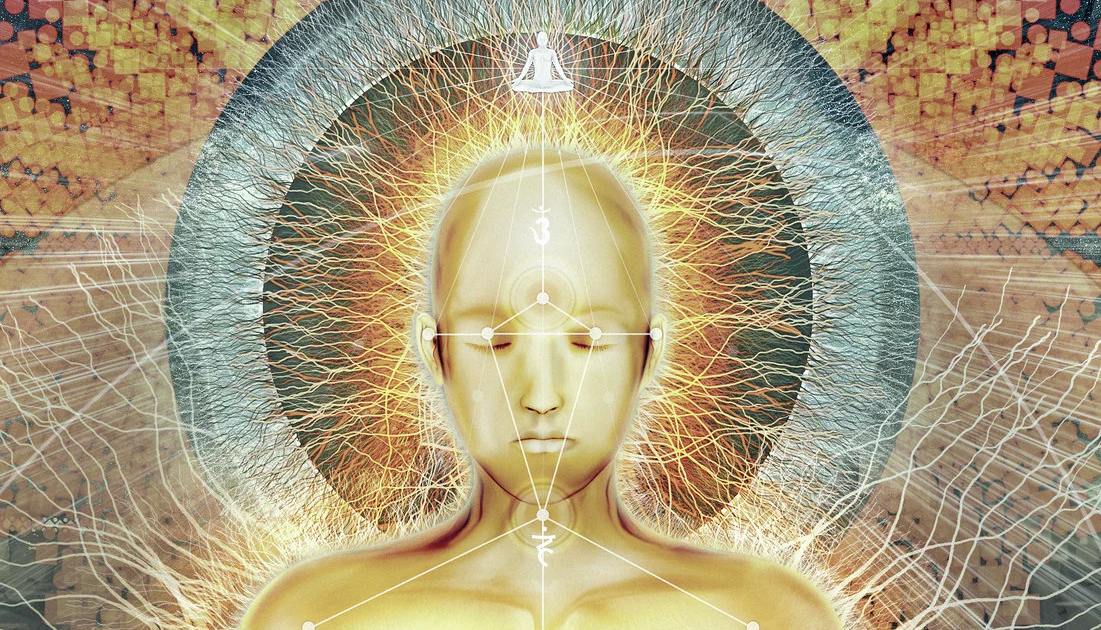
В каждом порту по личности
Две системы определяют, как работает человеческое созание — система адаптации и система самоанализа адаптационных действий — формируют в совокупности человеческую личность. Высокоразвитой личностью можно считать человека, у которого обе системы работают в наибольшей гармонии. Он быстро схватывает суть явлений, четко их осознает, мыслит ярко, чувствует всеобъемлюще. Про восприятие таких людей часто говорят: «Надо же, как точно он сказал! Я бы так не смог!» Личность похожа на идеальный гастрономический продукт, в котором всего ровно столько, сколько надо, и бессознательного, и адаптивности, и самоанализа. Требуется ли для подобной интеграции избыточное количество информации? Совсем нет. Для высокой скорости адаптации нужна ключевая информация, которая позволяет сделать правильный вывод и совершить правильный поступок.
При этом личность должна точно соответствовать месту и времени. Многие выдающиеся личности, вероятно, не получили бы такой репутации, окажись они в иной социально-культурной среде. Более того, даже в одном человеке при определенных условиях сосуществует несколько личностей. Это может быть, например, связано с так называемыми измененными состояниями сознания.
Многие выдающиеся личности, вероятно, не получили бы такой репутации, окажись они в иной социально-культурной среде. Более того, даже в одном человеке при определенных условиях сосуществует несколько личностей. Это может быть, например, связано с так называемыми измененными состояниями сознания.
Нормативным, биологически значимым для человека считается состояние, когда все ресурсы психики обращены во внешнюю среду — еще один факт о том, как работает человеческое сознание. Надо быть всегда начеку, постоянно анализировать входящую информацию. Но когда фокус внимания частично или полностью переключается на внутренние состояния, это и называется состоянием измененным. В этом случае может меняться и личность. Все знают, что пьяный человек способен на такие поступки, о которых даже подумать бы не мог в нормальном (трезвом) состоянии. Да и о глупом поведении влюбленных все осведомлены не понаслышке.
Американский психолог Роберт Фишер предложил концепцию «портов», согласно которой наше сознание похоже на капитана дальнего плавания, который путешествует по миру, и в каждом порту у него есть женщина. Но ни одна из них ничего не знает о других. Так и наше сознание. В разных состояниях оно способно продуцировать разные личностные свойства, но эти личности друг с другом зачастую совершенно не знакомы.
Но ни одна из них ничего не знает о других. Так и наше сознание. В разных состояниях оно способно продуцировать разные личностные свойства, но эти личности друг с другом зачастую совершенно не знакомы.
Автор — старший преподаватель кафедры дифференциальной психологии и психофизиологии Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ
что это такое и какие у него свойства?
Роботы быстро научились делать то, что умеют люди: виртуозно играть в шахматы и футбол, готовить, рисовать картины. Но чего не умеет делать искусственный интеллект, так это дегустировать вина или блюда, переживать эмоции и ставить себе цели. Он не умеет мыслить субъективно. Зато это может наше сознание.
Какие еще задачи способно выполнять сознание человека? Почему это понятия настолько сложное, что ученые не могут дать для него единого определения? И почему очищать мозг не менее важно, чем чистить зубы перед сном? Ответы – в статье.
Что такое сознание?
Сознание — это фундаментальная научно-философская категория, выражающая единство психоэмоционального состояния и функции человеческого мозга. Феномену сознания посвящены тысячи научных работ, но при большом количестве подходов, теорий, аспектов, граней и толкований оно все так же остается загадкой для ученых. Каждое новое открытие о сущности этого явления добавляет информации, но не ясности. Поэтому у представителей разных научных направлений есть свое определение феномена:
Феномену сознания посвящены тысячи научных работ, но при большом количестве подходов, теорий, аспектов, граней и толкований оно все так же остается загадкой для ученых. Каждое новое открытие о сущности этого явления добавляет информации, но не ясности. Поэтому у представителей разных научных направлений есть свое определение феномена:
- Сознание (философия) – субъективная реальность, связанная с результатами деятельности мозга: мыслями, выводами, предрассудками, оценками, эмоциями, научными и опытными знаниями.
- Сознание (психология) – составная часть психического феномена, которая наряду с мышлением, волей, восприятием, памятью открывает субъекту картину мира, в которую включен он сам, его действия и состояния.
- Сознание (психолингвистика) – сформированное в процессе общения языковое наследие, тесно переплетенное с духовным развитием человечества, сопровождающее его на каждом этапе развития и отражающее каждую культурную стадию.

Пройти тест на тип восприятия
Единственное, в чем сходятся ученые – это неотделимость сознания от мозга. Поскольку нет ни одного доказательства о существовании сознания вне мозга, среди всех фактов и гипотез это утверждение считается самым надежным. Но вопросы о том, как в мозге рождается мысль или субъективное мнение, как устроена память и речь, откуда берутся фантазии или вещие сны, что ощущает человек в коме или под гипнозом остаются открытыми.
Изучение сознания напрямую связано с созданием искусственного интеллекта. Поэтому разобраться в сознании – сложнейшая из задач, которая стоит перед философами, социологами, психологами, медиками, лингвистами, генетиками, биологами, специалистами компьютерных технологий и робототехники.
История вопроса.
Вопросы о происхождении и местонахождении сознания впервые были сформулированы учеными, жившими до нашей эры. Гиппократ был первым врачом, связавшим психику человека с его мозгом. А основатель афинской академии Платон считал, что думать о самом себе человек способен только благодаря своей бессмертной душе.
В XVII веке французский математик и философ Рене Декарт разработал концепцию двойственной природы человека: материального тела и нематериальной души. Дальнейшее изучение сознания в философии и науке связано с великими учеными-естествоиспытателями: Вильгельмом Лейбницем, Джорджем Беркли, Джоном Локком.
Психология как наука о сознании отделилась от философии в середине XIX века. В это же время в Лейпциге была создана первая экспериментальная лаборатория, посвященная исследованию этого феномена. С приходом Зигмунда Фрейда мир столкнулся с обратной стороной сознания – бессознательным. Начиная с середины XX века познавательными процессами в мозге занимается когнитивная наука. Научные открытия в области изучения сознания сделали Вильгельм Вундт, Роджер Сперри, Роджер Пенроуз, Александр Лурия, Джон Серл, Наталья Бехтерева, Лев Выготский.
Единой, разделяемой идеи сознания не существует.
Есть множество противоречивых определений и смыслов, вложенных в это понятие: от представления субъекта о себе и окружающем мире до своеобразного хранилища мыслительного процесса в определенный момент времени. Одни ученые сравнивают сознание с эфиром, который распределен во Вселенной, а человеческий мозг – с приемником. Другие утверждают, что самосознанием обладает не только человек, но и любое чувствующее и реагирующее существо и даже живая клетка. Третьи вообще называют сознание иллюзией.
Одни ученые сравнивают сознание с эфиром, который распределен во Вселенной, а человеческий мозг – с приемником. Другие утверждают, что самосознанием обладает не только человек, но и любое чувствующее и реагирующее существо и даже живая клетка. Третьи вообще называют сознание иллюзией.
Нет одного мнения и о возникновении сознания. Одни связывают его происхождение с природным или «телесным» началом. Другие приписывают ему божественное происхождение и утверждают, что сознание человека подобно душе было «вложено» в тело высшим разумом. Есть ученые, которые считают, что сознание не вписывается в физическую картину мира, поэтому научный подход к его исследованию не применим в принципе.
Свойства сознания личности.
Многослойность структуры и многозначность термина сознания также породила разные мнения ученых о свойствах этого феномена. Есть несколько общих трактовок, которые дают понимание свойств сознания:
- Это продукт эволюции человека. Постепенно мозг научился не просто реагировать на внешние стимулы, но перешел к самонаблюдению и отслеживанию своих реакций на происходящее.

- Оно реально и не может быть сведено к другим явлениям. Доказательство этому — утверждение американского профессора нейрофизиологии Джозефа Богена, который сравнивал сознание с ветром. Ветер увидеть нельзя, возможно только заметить результаты его деятельности.
- Оно наполнено субъективными переживаниями. Ученые называют это явление «Qualia»-«феноменальное сознание». Это наши ощущения: тепло-холодно, вкусно-невкусно, кисло-сладко, комфортно-некомфортно. Все это не измеряется никакими физическими приборами, но обозначают разные ощущения у разных людей.
- Качественно проявляется в разных состояниях. В моменты, когда человек признается в любви или читает политические новости, он чувствует себя иначе.
- Интегрирует разные элементы в единое поле. Например, когда человек читает книгу, он не только складывает буквы в отдельные слова. В это же время он ощущает шероховатость страниц, составляет мнение о прочитанном, испытывает эмоции, переживает по поводу возникающих ассоциаций и своего прошлого опыта.

- Оно первично. Все созданное человеком сначала возникло в его сознании. Именно оно помогает человеку реализовывать задуманное, «вкладывать» душу в свои дела, ощущать собственную ценность и нужность.
Пройти тест на полушария мозга
Функции и виды сознания.
Сознание в психологии неотделимо от осознавания собственного «Я». Соответственно, его главные функции направлены на становление и формирование личности:
- Познавательная: возможность формировать знания о действительности.
- Накопительная: способность накапливать знания свои собственные и переданные предыдущими поколениями.
- Оценочная: возможность оценивать поступки с точки зрения собственной морали, своих потребностей и интересов.
- Целенаправленная: умение представить будущий результат своей деятельности и наметить пути его достижения.
- Креативная: желание созидать, изобретать, реализовывать свои идеи «по законам красоты».

- Коммуникативная: возможность понимать других людей, общаться лично или через средства связи.
- Регулятивная: способность регулировать свое поведение и деятельность с учетом изменившихся обстоятельств.
- Времяобразующая: способность формировать целостную временную картину мира, в которой присутствует память о прошлом, предположения о будущем, видение настоящего.
- Рефлексивная: способность через самосознание наблюдать за собой, оценивать свои поступки, эмоции, мысли, мотивы, знания.
Это не полный список функций сознания. Но есть у него еще одна функция, которой озабочены большинство исследователей – это житейский опыт или ощущения «от первого лица». Он формируется при первом взаимодействии с вещами или явлениями и закрепляется в языке в виде утверждений из категории «нравится-не нравится».
Психология сознания признает два его состояния, которые свойственны психически здоровым людям: в состоянии бодрствования (активное действие) и в состоянии сна (период отдыха). Есть и другие состояния: помрачение, ступор, отупение, кома, бред, галлюцинации. Эти состояния – поле деятельности клинических психологов и тех, кого интересует психологическое воздействие на сознание человека.
Есть и другие состояния: помрачение, ступор, отупение, кома, бред, галлюцинации. Эти состояния – поле деятельности клинических психологов и тех, кого интересует психологическое воздействие на сознание человека.
Управление сознанием.
Наше внутреннее «Я» точно так же нуждается в «чистке», как тело или жилище. Среди ученых даже есть такое выражение: «желудок умнее мозга – его может стошнить». Речь идет о том, что желудок способен радикальным способом избавиться от лишнего или того, что он неспособен переварить. Но весь информационный мусор, который попадает в нашу голову, остается в ней навсегда.
Как только начинаешь фильтровать просмотр телевизора, новости в интернете, бессмысленные разговоры, противоречивые слухи, очищение сознания происходит само собой. Но как быть с тем, что уже накопилось? Для этого есть три детокс-техники очистки мозга.
Техника 1. Профилактика.
Процесс ментальной уборки начинается с простых правил информационной профилактики:
- Если рассказываете о чем-то, постарайтесь передать то, что видели лично.
 Свои впечатления, слухи или мнение по этому поводу лучше оставить при себе. Это поможет не засорять информационное поле и не отдаляться от реальности.
Свои впечатления, слухи или мнение по этому поводу лучше оставить при себе. Это поможет не засорять информационное поле и не отдаляться от реальности. - Если пересказываете чужие рассказы, перепроверяйте информацию. Те, что наполнены негативными эмоциями или нелесными оценками лучше не пересказывать совсем. Это поможет не нагнетать панику и сохранить собственное спокойствие.
- Если спорите о чем-то, то аргументируйте свои доводы фактами, а не эмоциями или авторитетом. Это поможет не тратить энергию на спор ради спора.
Техника 2. Расслабляющая пятница.
Речь пойдет не о традиционных пятничных способах расслабления после тяжелой трудовой недели. Эта техника поможет взять больше контроля над своей жизнью, выполнять важные, но не срочные дела, которые периодически всплывают в памяти и мешают сконцентрироваться.
- В понедельник положите на стол чистый лист бумаги и ручку.
- На протяжении недели записывайте все дела, которые периодически всплывают в памяти.

- В пятницу вечером возьмите список и разбейте дела по категориям так, чтобы в них было проще ориентироваться. Например, в одном списке могут быть самые трудозатратные: генеральная уборка, поездка в супермаркет. Их можно разбить на несколько дополнительных пунктов, чтобы было проще выполнять. В другом списке могут быть дела, которые можно сделать поздно вечером: оформить альбом с фотографиями, поискать в интернете новую книгу.
- В субботу утром возьмите в руки готовый список и выполняйте все, что в нем записано. Если что-то не успели, но хотите сделать «когда-нибудь», перенесите дела в отдельный список и закрепите на видном месте.
Техника 3. Практикуем осознанность.
Осознанность – это часть буддийской медитативной практики. В западной культуре она используется как терапевтический метод для того, чтобы научиться наблюдать за собой без критики и лишней жалости, избавляться от стресса и непродуктивных моделей мышления.
Осознанность можно практиковать на разных уровнях:
- Эмоциональном.
 Отслеживать негативные, осуждающие, оценочные мысли о самом себе и других.
Отслеживать негативные, осуждающие, оценочные мысли о самом себе и других. - Ментальном. Научиться договариваться с собой перед началом нового дела, рассматривать проблемы как новые возможности.
- Телесном. Заниматься спортом, больше гулять, высыпаться, наслаждаться красотой природы и произведений искусства.
- Интуитивном. Учиться действовать без постоянных подсказок, опираться на свои ощущения и интуицию.
- Ритуальном. Погружаться в полную тишину, чтобы попрактиковать медитацию, глубокое дыхание, благодарность, помолиться или просто поразмышлять.
Выводы:
- Сознание – это то, что отличает человека от животных. Но единого определения, что это такое, пока не существует.
- Единственное, в чем уверены ученые: сознания вне мозга не существует.
- Практика осознанности помогает поддержать гигиену сознания и пережить трудные времена, полные стресса.

Пройти тест на интуицию
Что такое сознание / Хабр
Одним из самых главных научных вопросов Человечества, считается вопрос: «Что такое сознание?». Как Человек думает, принимает решения, как происходит мышление, анализ и интерпретация различных внешних раздражителей и т.д. Ответы на эти вопросы, а также что такое сознание, главный вопрос жизни, вселенной и всего такого под катом.
42
Рефлексом принято считать ответ на раздражитель и это понятие довольно-таки простое. Оно было введено Рене Декартом еще в XVII веке нашей эры. Декарт представил нервную систему как некую гидравлическую конструкцию с «нервными трубками», которые заполнены «животными духами», при воздействии на которые они перемещались сначала в мозг, а затем, отразившись также двигаясь по трубкам, действовали на мышцы, заставляя их сжиматься подобно гидравлическим исполнительным механизмами. Слово рефлекс с латинского языка означает отраженный, и его суть хорошо отражается в следующей схеме, которая до сих пор сохраняет свою актуальность.
Раздражители воздействуют на рецепторы органов чувств, рецепторы интерпретируют эти воздействия в нервные импульсы, сигналы, поступающие в центральную нервную систему (ЦНС), мозг, где обрабатываются соответствующими цепочками нейронов (отражаются) и далее происходит соответствующий рефлекторный ответ, сокращение мышцы или секреция желёз.
Но данной схемы оказалось недостаточно для объяснения многих форм целенаправленного поведения. Ведь здесь логичным будет заявление о том, что если мы прекратим подачу раздражителей, то и прекратиться нервная деятельность. Для животных с относительно простой нервной системой это справедливо, к примеру, если лягушке перерезать восходящие нервные пути, то её мозг как бы погрузится в сон, и не будет генерировать никакой нервной активности. Но если то же самое сделать с кошкой, то есть вероятность обнаружения нервной активности приводящей, к примеру, к хождению.
На людях операции по частичному перерезанию спинного мозга с целью проверки гипотез Декарта не делались по этическим соображениям, но американский психолог Тимоти Лири проводил эксперименты в специальных депривационных камерах. Камера сенсорной депривации Лири представляла собой ванну со специальным солевым раствором, который поддерживал на плаву тело подопытного. Камера была изолирована от внешних звуков и света, температура раствора регулировалась и подбиралась с учётом температуры тела. Об ощущениях пребывания в такой камере писал в своей автобиографической книге: «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!», американский учёный в области физики Ричард Филлипс Фейнман. Обычно Ричард засыпал, но бывало, что он переживал некий опыт внетелесного пребывания. В общем, о полном прекращении нервной деятельности в случае отсутствия раздражителей говорить нельзя.
Камера сенсорной депривации Лири представляла собой ванну со специальным солевым раствором, который поддерживал на плаву тело подопытного. Камера была изолирована от внешних звуков и света, температура раствора регулировалась и подбиралась с учётом температуры тела. Об ощущениях пребывания в такой камере писал в своей автобиографической книге: «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!», американский учёный в области физики Ричард Филлипс Фейнман. Обычно Ричард засыпал, но бывало, что он переживал некий опыт внетелесного пребывания. В общем, о полном прекращении нервной деятельности в случае отсутствия раздражителей говорить нельзя.
Значит, схема Декарта неверна и существует нечто, что выше рефлекторной деятельности, некое мышление, или мыслительный процесс. – Нет! Она верна, просто её нужно немного дополнить.
Во-первых, в схеме Декарта не учтено наличие потребностей и эмоциональных механизмов. К примеру, пищевой голод может вызвать активность соответствующих «клеток требования» и их активность может привести к активизации определённых рефлексов, которые приводили бы к целенаправленным действиям по удовлетворению потребности в пище. Наши потребности это источник активных действий, которые зарождается в самой центральной нервной системе. Нервные клетки с рецепторами, реагирующими на лептин и его отсутствие, находятся на одном из отделов ЦНС гипоталамусе. Лептин вырабатывается жировыми клетками и является индикатором уровня питательных веществ в арготизме. Поэтому если мы изолируем ЦНС от тела, активность в ней возникнет и по причине отсутствия лептина.
Наши потребности это источник активных действий, которые зарождается в самой центральной нервной системе. Нервные клетки с рецепторами, реагирующими на лептин и его отсутствие, находятся на одном из отделов ЦНС гипоталамусе. Лептин вырабатывается жировыми клетками и является индикатором уровня питательных веществ в арготизме. Поэтому если мы изолируем ЦНС от тела, активность в ней возникнет и по причине отсутствия лептина.
Потребность в новизне вообще не затрагивает периферию и уровень активности соответствующих «клеток требования» зависит от характера активности в самой центральной нервной системе, что создает источник активности направленной на поиск новой информации, изучению новых материалов, чтению книг или елозанию пальцем по экрану телефона и планшета.
Активность клеток требования не удовлетворяемых потребностей, можно использовать – это называется сублимацией. В частности, Зигмунд Фрейд описывал сублимацию как перенаправление сексуальной энергии в полезное русло. Некоторым творческим личностям приписывается высокая творческая продуктивность благодаря использованию нервной активности черпанной из неудовлетворенных потребностей или несбиваемых болей.
Во-вторых, нервная система обладает уникальным свойством – памятью. Мы знаем, что это не просто записанная где-то информация, а некая перестройка системы. Можно сказать, что с каждой новым внешним обрабатываемым сигналом мы имеем дело с новой системой. Как сказал бы Гераклит: «В одну реку нельзя войти дважды». Поэтому обязательно при описании нервной системы необходимо учитывать фактор времени. Рефлекс – это не только ответ на раздражитель, это ответ на раздражитель с учетом всей истории полученных раздражителей. К примеру, у нас есть два близнеца их нервные системы, по своей структуре очень схожи, но в процессе взросления к одному обращались по имени – Николай, к другому – Пётр. Если мы воздействуем на их нервные системы одинаковым раздражителем, вопросом: «Как тебя зовут?», то получим различные ответные действия, ответы: «Николай» или «Пётр» соответственно. История полученных данных, как от внешних раздражителей, так и от сигналов организма, а также начальные настройки системы определяют какой ответ на раздражитель, будет выдавать нервная система в данный момент времени.
В-третьих, генераторы. Именно генераторы играют главную роль в процессах мышления. Генератор – это цепочка нейронов, в которой происходит циклическая передача нервного возбуждения. Генератор как бы аккумулирует в себе возбуждение и может быть его источником. К примеру, центральный генератор упорядоченной активности (ЦГУА), подающий ритмические упорядоченные моторные сигналы без обратной связи.
Реализация генератора в симуляторе нервной системы:
Схема простого генератора:
Генератор представляет собой замкнутый контур цепочки нейронов. Запуск генератора происходит от активации рецептора «Q», а его остановка рецептором «W» через ингибирующий нейрон, который тормозит возникновение возбуждения в одном из нейронов цепочки. Такой замкнутый контур может быть источником возбуждения. Данная нейронная сеть иллюстрирует простой рефлекторный акт, но при этом в период активации генератора возникают некоторые действия без раздражителей.
Что это, уже не рефлекс или еще не мышление? Некоторые исследователи предпочитают называть явления связанные с аккумуляцией нервной активности мышлением, но для меня термин рефлекс менее абстрактен, он хотя бы подразумевают передачу возбуждения от нервных клеток к клеткам.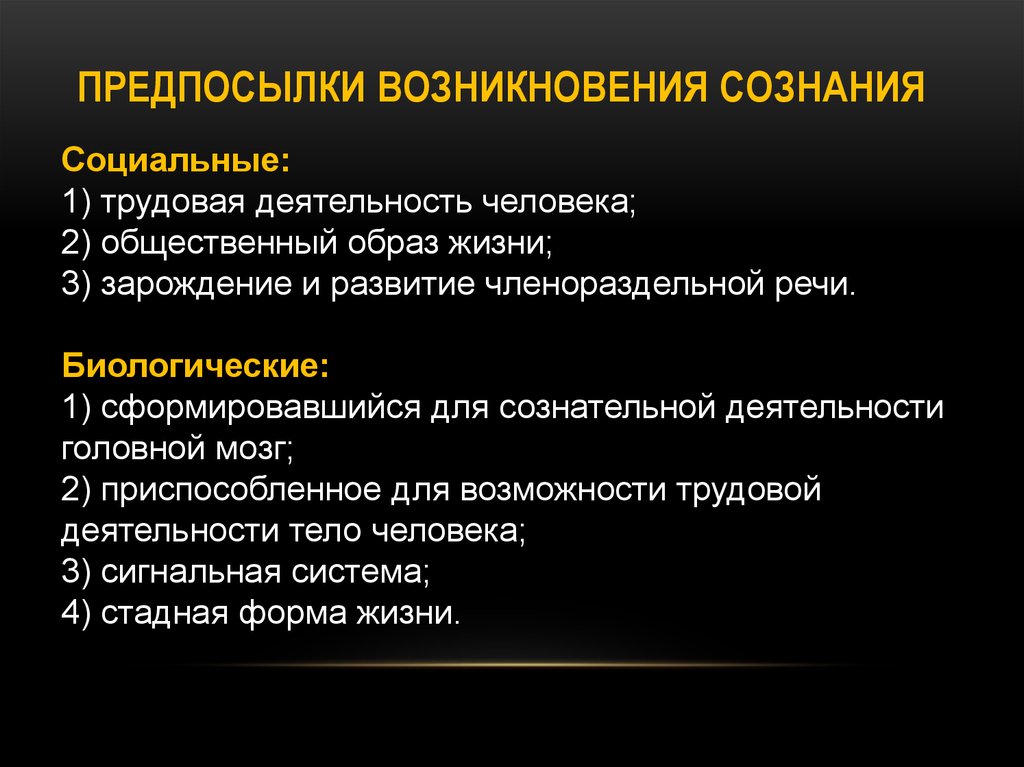 Поэтому мы будем использовать термин рефлекс и рефлекторный акт, подразумевая, что для выполнения рефлекса не всегда требуется раздражитель и генератор может быть источником возбуждения.
Поэтому мы будем использовать термин рефлекс и рефлекторный акт, подразумевая, что для выполнения рефлекса не всегда требуется раздражитель и генератор может быть источником возбуждения.
Генераторы появились в нервных системах эволюционно очень рано, в основном они используются для генерации циклических сокращений мышц при передвижении и выполнения некоторых вегетативных функций.
У обычного таракана существуют два режима локомоций (перемещение в пространстве): неспешная прогулка и бег. Когда таракан находится в поиске пищи и изучении окружающего пространства он неспешно перебирает своими ножками, а источником циклической нервной активности для этих действий может служить цепочка нейронов – генератор, подпитываемая клетками требования пищевого голода (Q). Отключением этой цепочки может служить ингибирующее влияние анализаторов рецепторов таракана, если рецепторы указывают на наличие пищи, то не стоит проходить мимо (W). В случае опасности таракан может выбрать более быстрый режим перемещения. Включённый свет на кухне среди ночи будет являться раздражителем для включения цепочки нейронов бега ®. В приведённой схеме для переключения используется модулируемый нейроэлемент (зелёный), его активность указывает на состояние паники или стресса у таракана. По окончании модулирующего действия или воздействия других благоприятных факторов неравная система таракана переключается обратно в режим «неспешной прогулки» (F).
Включённый свет на кухне среди ночи будет являться раздражителем для включения цепочки нейронов бега ®. В приведённой схеме для переключения используется модулируемый нейроэлемент (зелёный), его активность указывает на состояние паники или стресса у таракана. По окончании модулирующего действия или воздействия других благоприятных факторов неравная система таракана переключается обратно в режим «неспешной прогулки» (F).
Конечно, данная схема лишь демонстрирует некоторые принципы организации биологических нейронных сетей и не является интерпретацией нервной системы таракана. Нервная система таракана в значительной степени более сложная насчитывающая в себе сотни тысяч нейронов и, конечно же, обладает большей вариативностью поведения.
Четвероногие млекопитающие увеличили количество вариантов аллюра по сравнению с насекомыми вдвое. В приведенном примере смена видов походок происходит с помощью двух раздражителей «R» и «F», причем переход с «Прогулки» на «Рысь», «Аллюр» и затем «Галоп» происходит при повторной активации раздражителя «R», а для обратного порядка «F», своеобразное повышение и понижение передачи. Конечно, такое сложное действие как хождение нельзя сводить к односторонним сигналам, посылаемым к конечностям. Каждая конечность управляется группой мышц разгибателей и сгибателей в свою очередь каждая мышца подразделяется на отдельные моторные единицы и всем нужно подавать свои согласованные сигналы. Так же существует обратная связь, которая нужна для корректировки команд в случае усталости мышц или получения повреждения. Теоретически эту модель, возможно, усложнять до бесконечности приближаясь к биологическому аналогу.
Конечно, такое сложное действие как хождение нельзя сводить к односторонним сигналам, посылаемым к конечностям. Каждая конечность управляется группой мышц разгибателей и сгибателей в свою очередь каждая мышца подразделяется на отдельные моторные единицы и всем нужно подавать свои согласованные сигналы. Так же существует обратная связь, которая нужна для корректировки команд в случае усталости мышц или получения повреждения. Теоретически эту модель, возможно, усложнять до бесконечности приближаясь к биологическому аналогу.
Помимо заложенных в цепочках нейронов программ моторных движений у млекопитающих есть отдельный нервный центр позволяющий корректировать и более точно координировать работу двигательных единиц – это мозжечок.
Самое удивительное в приведённом примере то, что мы можем переключать режимы генерации сигналов, используя лишь модулирующие свойства нейронов. Логика построения подобных нейронных сетей может быть любая, как инженер я отталкивался от идеи нейрон-транзистор, изначально у модулируемого нейрона очень высокий порог, а значит, он практически не пропускает сигналы, действие модулирующего синапса с понижением порога подобно действию базы в транзисторе.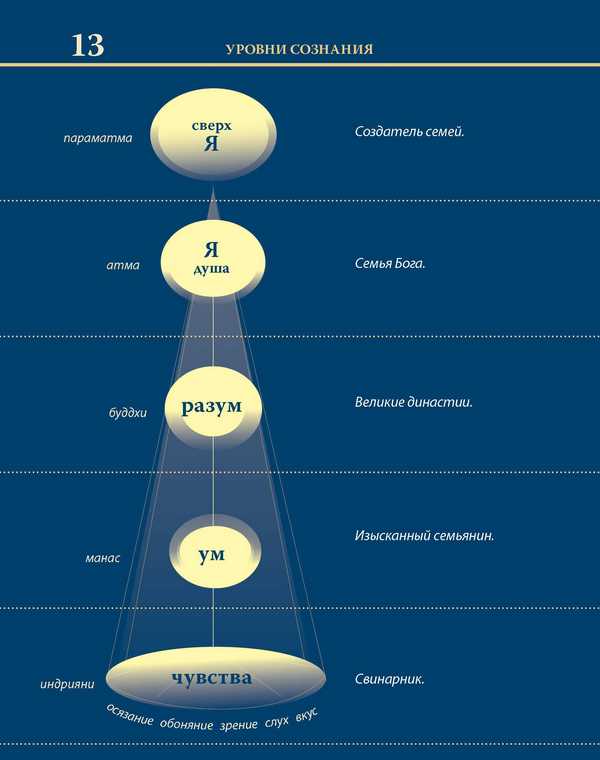 Промодулировав порог нейрона на снижение мы открываем проход для сигналов от синапсов прямого действия на время пока действует эффект модуляции или пока мы не окажем модулирующее действие к повышению порога. Для представленной схемы достаточно было использовать три таких нейронов-транзисторов.
Промодулировав порог нейрона на снижение мы открываем проход для сигналов от синапсов прямого действия на время пока действует эффект модуляции или пока мы не окажем модулирующее действие к повышению порога. Для представленной схемы достаточно было использовать три таких нейронов-транзисторов.
В своё время появление транзисторов в электротехнике породило неограниченные возможности в построении систем с функционалом любой сложности, подобный инструмент был и в арсенале эволюции.
Из наблюдения за поведением животных явно следует, что в нервной системе должна присутствовать возможность переключения между различными схемами поведения, запечатленными в цепочках нейронов. К примеру, самцы сумчатой мыши (лат. Antechinus) в период спаривания (раз в год) кардинально меняют своё поведение. Игнорируя потребность в еде, воде и без экономии сил находятся в поисках самок или спариваются на протяжении от 6 до 12 часов, а после этого истратив все силы, погибают. Это возможно благодаря модулирующим свойствам нейронов и синапсов.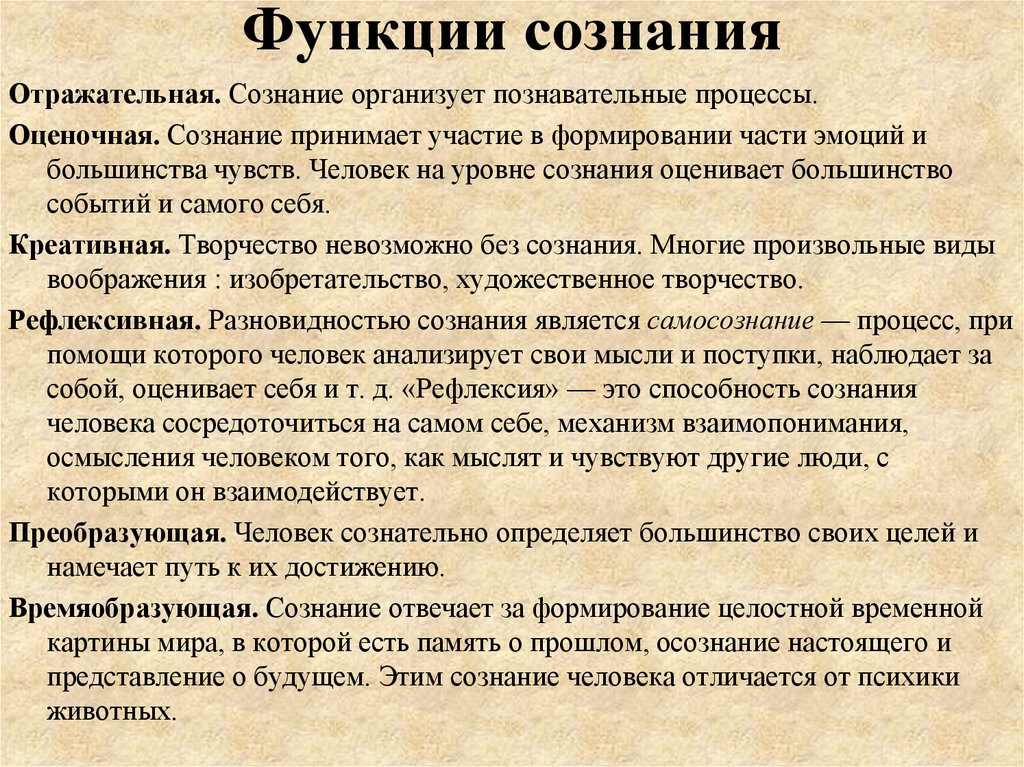 Действие определенной комбинации гормонов оказало модулирующее действие на цепочку-переключатель нейронов в нервной системе мыши, благодаря чему на прежние раздражители мышь стала реагировать иначе, в данном случае стала полностью игнорировать другие свои потребности кроме как потребность в размножении.
Действие определенной комбинации гормонов оказало модулирующее действие на цепочку-переключатель нейронов в нервной системе мыши, благодаря чему на прежние раздражители мышь стала реагировать иначе, в данном случае стала полностью игнорировать другие свои потребности кроме как потребность в размножении.
Модуляция работает и при смене нашего настроения и при управлении концентрацией и вниманием. Если Ваша нервная система будет промодулирована активностью дофаминовых нейронов вентральной области покрышки, то настроение будет положительным и будет возможность радоваться жизни, двигаться и изучать что-то новое, в противном случае Вам не захочется даже пошевелиться.
Рефлекс становиться всё более сложным понятием: генераторы, память, потребности и переключатели – неужели только такая простая вещь может стоять за величием Человеческого мышления, сознания способное познавать окружающий мир и самого себя и своё место в этом мире.
Чтобы погружаться дальше в ответ на самый главный вопрос мы рассмотрим механизмы работы нервной системы с образами.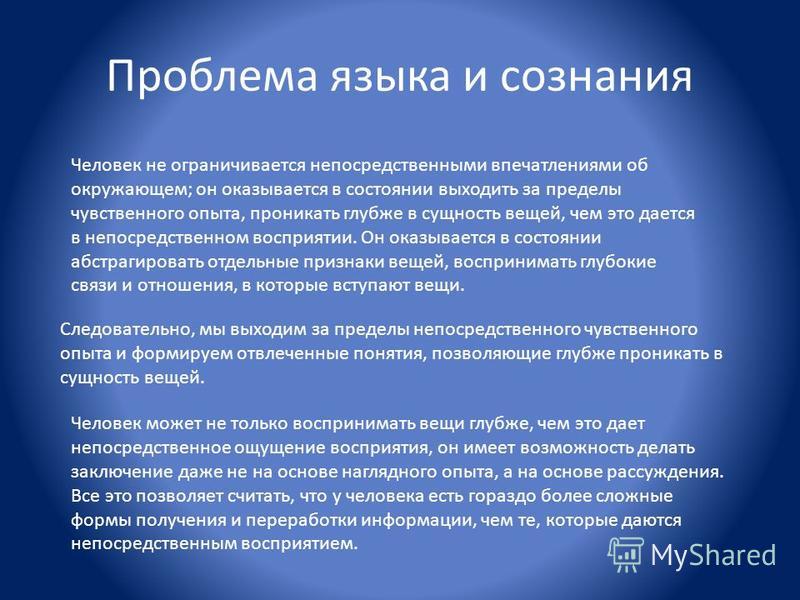
Образ в нервной системе это активность вполне конкретных нейронов, в статье посвящённой памяти мы увидели, как происходит самоорганизация, и специализация нервных клеток, в основе которой лежит взаимопритяжение возбуждения нервной ткани. Роль, которую выберет для себя нейрон, определяется его местоположением, а если учесть то, что пластичность нервной ткани ниже абсолютной то, и историей обработанных данных окружающих его областей. Важно положение относительно источников возбуждения, они будут являться отражением понятия «признак».
Признак или совокупность признаков после обработки приводят к формированию или активации образа. Образ в свою очередь может сформировать сигнал, который будет являться признаком, приводящим к запуску другого образа. Следовательно, можно говорить о некой иерархии образов и можно выделить уровни образности или абстрактности. Каждый последующий уровень абстрактности будет всё в меньшей степени привязан к активности определённых рецепторов органов восприятия. Можно сопоставить уровни абстрактности с разбиением различных областей коры как анализаторов образов различной сложности.
Можно сопоставить уровни абстрактности с разбиением различных областей коры как анализаторов образов различной сложности.
Признаки могут принадлежать сразу нескольким различным образам, и решающим условием активации того или иного образа является исключительные комбинации признаков, с учётом взаимной конкуренции схожих образов. Зачастую для формирования образа требуется участие признаков различного характера, к примеру, для зрительного распознавания объектов нашим мозгом требуется использовать команды, посылаемые на мышцы управляющие положением глаз, как признаки, наряду с некоторыми несложными образами.
Люди, которые занимаются рисованием, знают, что очень сложно нарисовать портрет не нарушив положение элементов лица, мало того, что мы видим лицо, которое рисуем как совокупность отдельных образов, так и рисованное нами лицо воспринимается также. Поэтому в школах рисования рекомендуют изначально создать некий контур, скелет из тонких линий который будет определять положение элементов лица.
Существуют повреждения мозга, при которых люди не могут распознать объекты целиком, воспринимая только отдельные признаки. В книге «Человек, который принял жену за шляпу» Оливер Сакс американский невролог и писатель описывает подобные патологии.
Совокупность признаков как образов элементов лица, а размер саккад как оценка расстояния и положения этих элементов позволяет объяснить, почему мы легко узнаем искаженные или карикатурные лица.
Вытяните руку перед собой и выставите большой палец вверх, область диаметром не более вашего большого пальца соответствует зрительной области, которая воспринимается достаточно чётко для нашей зрительной системы, остальная периферия, можно сказать, воспринимается с низкой чёткостью, размыто. Но мы ощущаем, что зрительная область нашего восприятия значительно более широкая, это происходит не только благодаря саккадам, но способностью нашего мозга, в частности зрительного анализатора «склеивать» воспринимаемые образы. Нарушение в работе данной функции мозга делает людей в быту практически слепыми.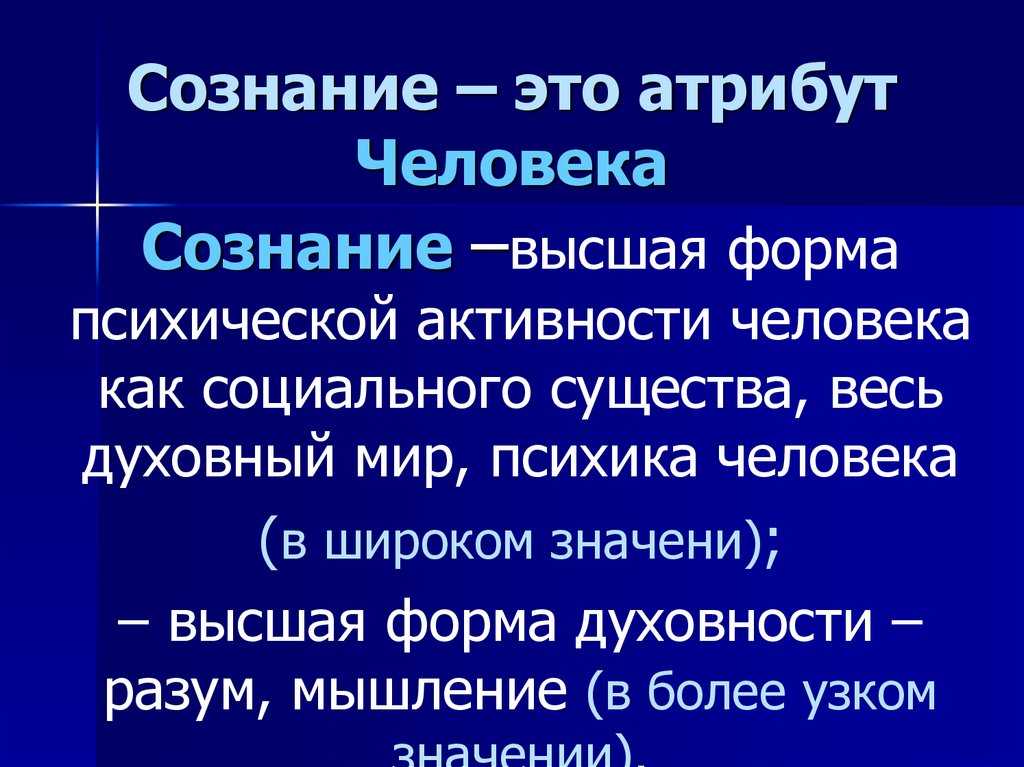
24 кадра в секунду скорость стандартной кинопроекции, обусловленная не способностью нашего восприятия уловить смену кадров при такой скорости. Наш мозг обрабатывает информацию не дискретными порциями, а в непрерывном потоке. При условии, что для каждого этапа обработки информации требуется затратить определённое время возникает ситуация при которой информационные потоки разной степени актуальности могут обрабатываться совместно. К примеру, область под названием V5 (MT) средне-височная кора получает информацию в форме некоторых признаков сразу от трех областей V1, V2 и V3 первичной зрительной обработки информации, которая обрабатывается в этих областях последовательно. Соответственно самой актуальной информацией попадающей в средне-височную кору является та информация, которая поступает от области V1, а информация от областей V2 и V3 была актуальна некоторое время ранее. Если информация поступаемся от трех областей мозга, будет отличаться определенным образом и при этом не было команды на саккаду, то можно говорить о возможном перемещении объекта, но если движение глаз было, то можно составить представление о форме объекта.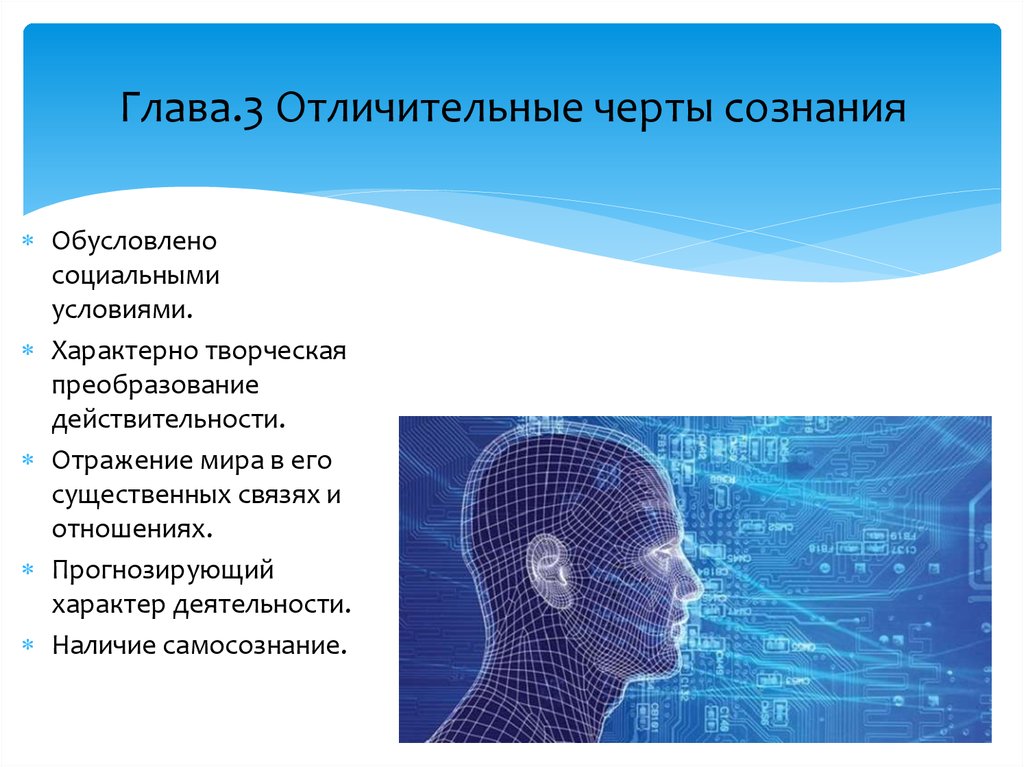 Также областью V5 можно оценить новизну зрительной информации, если информация статична в тех областях, то пора делать новое движение глаз.
Также областью V5 можно оценить новизну зрительной информации, если информация статична в тех областях, то пора делать новое движение глаз.
Наша система зрительного восприятия основана сразу на нескольких методах работающих параллельно, одни методы быстры, но неточны, другие более качественные, но требующие времени на сбор признаков в форме концентрации взгляда на детали объекта.
Пример со зрительной областью V5 показывает то, как мозг может работать с контекстом, но здесь речь идет всего лишь о долях секунд пока возбуждение распространяется по коре. В нервной системе существует очень простой механизм, который позволяет оставить «след» информации, которая была обработана, для использования её в последующей обработке как контекст.
Соблазнительно думать, что обработка информации в нервной системе идет последовательно от области к области и сигнал не возвращается к своему источнику, но в действительности структура и строение мозга указывает на обратное. К примеру, все сенсорные пути проходят через таламус, через таламические ядра, прежде чем попасть в кору, практически все клетки (90%) таламуса посылающие сигнал к коре получают обратный сигнал. И такая тенденция характерна для всего мозга, зрительный анализатор V1 имеет обратную связь с областью V2 и так далее по иерархии, так же гипоталамус связан с поясной извилиной. Это породило теорию реверберации импульсов как механизм временной памяти. На мой взгляд, она верна только отчасти. Генераторы могут быть элементами моментальной памяти, той памяти, которая требуется при выполнении элементарных действий, таких как набор номера телефона пока мы его слышим. Моментальная память длиться от нескольких секунд до нескольких минут, причём реверберации в префронтальной коре, или между передней частью поясной извилины и префронтальной корой самые продолжительные, до нескольких минут, а реверберации между таламусом и областями коры, анализирующими сенсорную информацию, длятся доли секунд или секунды, выше по уровням абстрактности это время будет увеличиваться. Именно реверберации и создают ритмы головного мозга своей совокупной работой.
И такая тенденция характерна для всего мозга, зрительный анализатор V1 имеет обратную связь с областью V2 и так далее по иерархии, так же гипоталамус связан с поясной извилиной. Это породило теорию реверберации импульсов как механизм временной памяти. На мой взгляд, она верна только отчасти. Генераторы могут быть элементами моментальной памяти, той памяти, которая требуется при выполнении элементарных действий, таких как набор номера телефона пока мы его слышим. Моментальная память длиться от нескольких секунд до нескольких минут, причём реверберации в префронтальной коре, или между передней частью поясной извилины и префронтальной корой самые продолжительные, до нескольких минут, а реверберации между таламусом и областями коры, анализирующими сенсорную информацию, длятся доли секунд или секунды, выше по уровням абстрактности это время будет увеличиваться. Именно реверберации и создают ритмы головного мозга своей совокупной работой.
Главное чтобы генератор заработал как ячейка памяти это наличие латерального ингибирования. Латеральное ингибирование (боковое торможение) еще один механизм, который распространен в нервной системе повсеместно, начиная от сетчатки глаза и других сенсорных систем и заканчивая ганглиями и корой. Эта система позволяет нам видеть чётче и острее, выделять важные звуки из шума и не спутывать образы. На gif’е выше показан пример из четырех элементов-генераторов, работа каждого генератора подавляет активность в трех других. Как видно это прекрасно работает, причем не происходит никаких изменений в синапсах и вообще в структуре сети, но мы можем точно сказать какой из четырех сигналов был активирован последним.
Латеральное ингибирование (боковое торможение) еще один механизм, который распространен в нервной системе повсеместно, начиная от сетчатки глаза и других сенсорных систем и заканчивая ганглиями и корой. Эта система позволяет нам видеть чётче и острее, выделять важные звуки из шума и не спутывать образы. На gif’е выше показан пример из четырех элементов-генераторов, работа каждого генератора подавляет активность в трех других. Как видно это прекрасно работает, причем не происходит никаких изменений в синапсах и вообще в структуре сети, но мы можем точно сказать какой из четырех сигналов был активирован последним.
Теперь представьте сенсорную карту на коре разбитую на кортикальные колонки, каждая колонка воздействует на своих соседей латеральным торможением. Это кора получает сложный рисунок активности от рецепторного поля органа чувств через таламическое ядро, происходит реверберация, в процессе которой этот рисунок видоизменяется. Слабые и нетипичные сигналы подавляются, а формируется более типичная форма образа для данной комбинации признаков, это можно сравнить с тем как происходят вычисления в рекуррентных сетях, но несколько проще.
Рисунок активных контуров возбуждения будет достаточно стабилен, если последующие сигналы от рецепторного поля будут незначительно отличаться. Удивительно насколько в нервной системе всё взаимосвязано, один механизм переплетён с другим, и элемент памяти может являться и элементом обработки информации. И только комплексное представление всей системы целиком даёт более точный смысл отдельных её механизмов.
Еще один очень важный контур передачи в нервной системе это круг Пейпеца (переднее ядро таламуса – поясная извилина – гиппокамп – опять таламус), этот контур тесно взаимодействует с эмоциональными центрами остальной части лимбической системы. Отличительную особенность ему даёт гиппокамп в котором обнаруживается самая большая концентрация нейронов с долговременной потенциацией. Долговременная потенциация – это усиление эффективности синаптической передачи между нейронами на некоторое время от нескольких минут, часов или даже дней. Это усиление происходит вследствие выбивания магниевых пробок из определённых рецепторов на постсинаптической мембране, что бы это произошло необходимо неоднократное частое прохождение потенциала действия по мембране нейрона.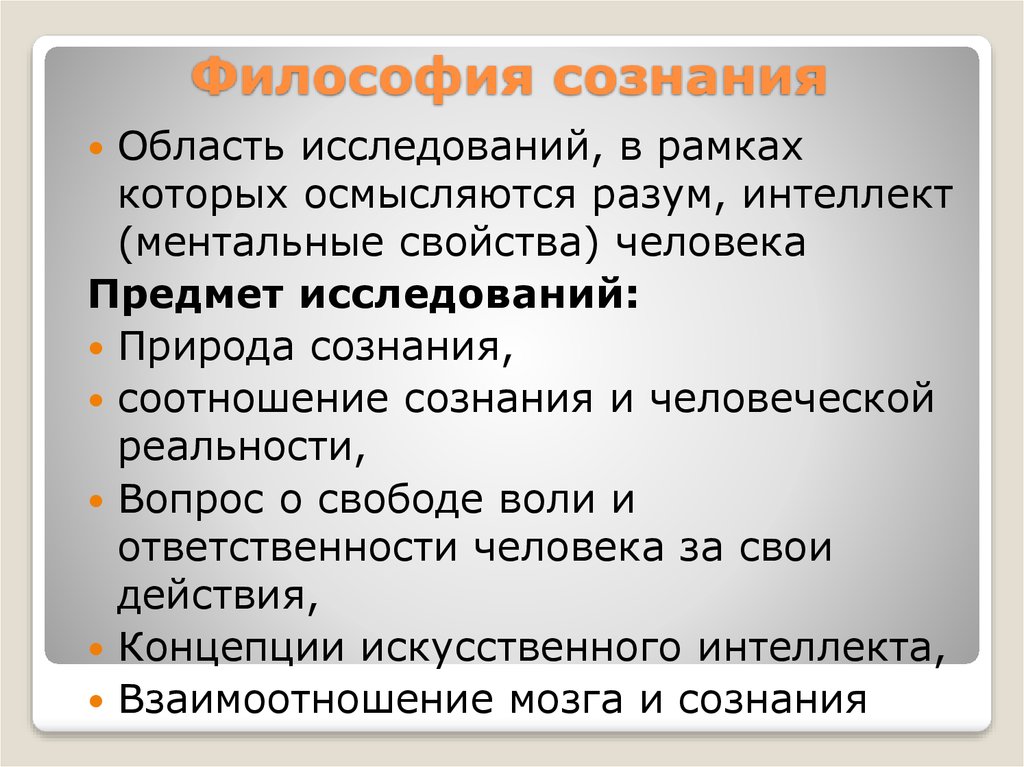 Можно сказать, что вовлекаясь в реверберацию нейрон гиппокампа становиться чувствительней, и ему требуется меньшее воздействие для активации на определённое время. В свою очередь нейроны поясной извилины, как и другая основная масса нейронов, подчинены принципам привыкания при длительной частой активации их чувствительность снижается на некоторое время. Если один элемент контура прекращает отвечать на сигнал то и прекращается реверберация. Гиппокамп отвечает за временную эксплицитную память, которая отражается в долговременной потенциации его нейронов. Эту память мы используем в течение всего дня, а в процессе сна происходит дополнительный «прогон» контуров передачи возбуждения помеченных долговременной потенциацией.
Можно сказать, что вовлекаясь в реверберацию нейрон гиппокампа становиться чувствительней, и ему требуется меньшее воздействие для активации на определённое время. В свою очередь нейроны поясной извилины, как и другая основная масса нейронов, подчинены принципам привыкания при длительной частой активации их чувствительность снижается на некоторое время. Если один элемент контура прекращает отвечать на сигнал то и прекращается реверберация. Гиппокамп отвечает за временную эксплицитную память, которая отражается в долговременной потенциации его нейронов. Эту память мы используем в течение всего дня, а в процессе сна происходит дополнительный «прогон» контуров передачи возбуждения помеченных долговременной потенциацией.
Круг Пейпеца находится в тесном взаимодействии с эмоциональными центрами, эти центры определяют, на какую информацию гиппокамп будет реагировать острее, модулируя чувствительность его нейронов.
По всей видимости, в процессе эволюции центральный генератор упорядоченной активности (ЦГУА) такой как у простого таракана усложнялся, добавлялось всё больше контуров передачи возбуждения, добавлялись условия взаимодействия между генераторами, добавлялись разветвления и увеличивался периметр и таким образом формировался венец творения природы – человеческий мозг. Как и прежде описанные процессы можно назвать рефлекторной деятельностью, хотя архитектура рефлекса значительно усложнилась, но всё равно она поддаётся систематическому описанию и теоретически моделированию.
Как и прежде описанные процессы можно назвать рефлекторной деятельностью, хотя архитектура рефлекса значительно усложнилась, но всё равно она поддаётся систематическому описанию и теоретически моделированию.
Существует уникальный для мозга Человека генератор – это речевой круг.
Речевой круг – это контур передачи информации от сенсоров слуха и внутримышечной чувствительности к областям-анализаторам речи коры мозга, затем к областям воспроизведения речи, далее к мышцам речевого аппарата, и в свою очередь работа речевого аппарата активизирует определённые сенсорные системы, причём в процессе циркуляции информации происходит её постоянная модификация.
Упрощенный вариант:
Слух (1), Внутримышечная чувствительность (5) > Вернике (8) > Брока (9) > Активность мышц (5)
В процессе произношения речи вслух активируются две сенсорные системы – это слух(1) и внутримышечная чувствительность мышц речевого аппарата(5). Причём эти две системы фактически интерпретируют одну и туже информацию синхронно.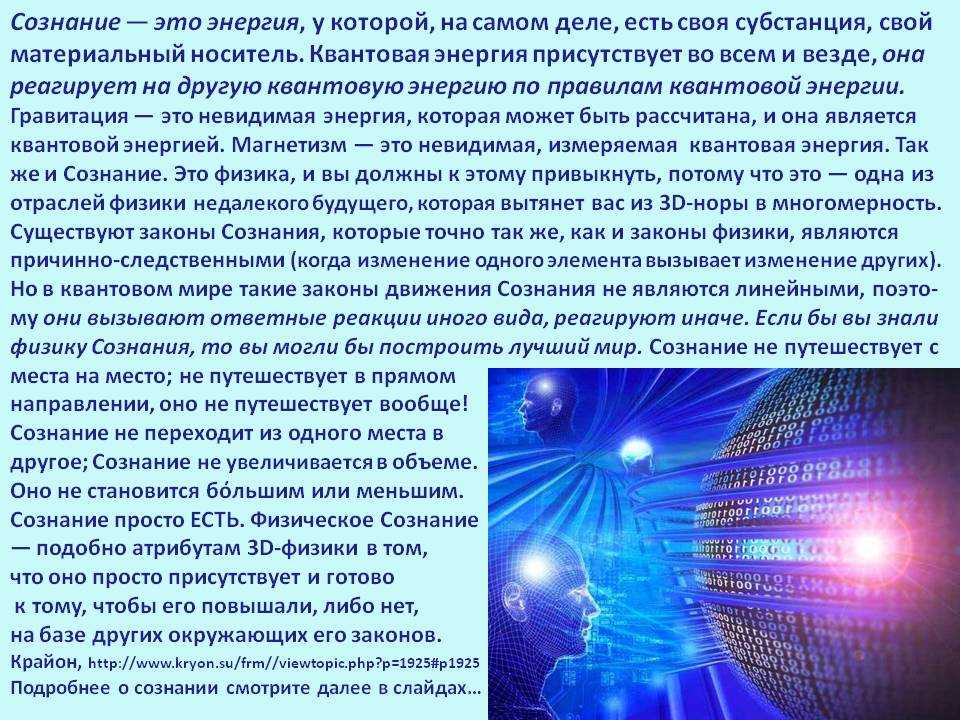
Вся сенсорная информация проходит через область в мозге – таламус(2). Таламус – это скопление нервных узлов или таламических ядер, представляющих собой группы и скопления нейронов. Человеческий таламус это симметричное образование имеющий от 40 до 60 ядер. Таламус не просто передает информацию далее к высшим отделам мозга, а выполняет важную роль во внимании и концентрации, он подобно привратнику стоит на входе потока информации и оценивает, что из этого следует допустить к высшему руководству, а что проигнорировать. Именно на уровне таламуса активно происходят явления привыкания для нейронов, т.е. однотипный и повторяющийся сигнал будет вызывать привыкание в определенных нейронах таламуса, чем приводить к снижению восприятия этого сигнала на более высоком уровне. Нервная система так устроена, что она корректно работает только на определённом уровне активности мозга, поэтому между таламическими ядрами работает взаимное модулирующее ингибирование, что формирует механизм концентрации внимания.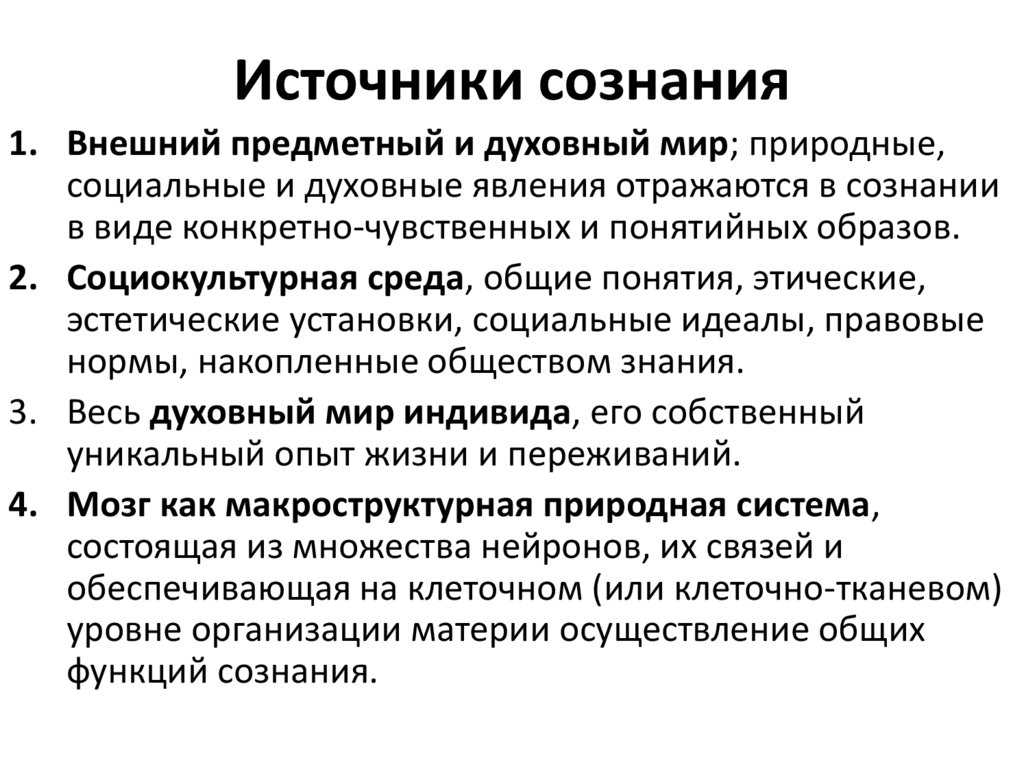 Сосредоточенность, к примеру, на слухе может подавлять тактильные ощущения. Природная чувствительность нейронов таламуса к привыканию может говорить о неусидчивости и неспособности к длительной концентрации, таламус неминуемо переключает внимание – это защитный механизм от перенапряжения нервной ткани. Внимание в таламусе регулируется двумя путями: «снизу вверх» и «сверху вниз». Путь «снизу вверх» заложен в животных от рождения, Нас неминуемо привлекает громкие звуки, новые звуки, болевые ощущения, неприятные запахи и т.д. Эти сигналы связанны с рефлекторными актами, которые увеличивают (модулируют) чувствительность соответствующих таламических ядер. Путь «сверху вниз» — это зачастую более слабое управление вниманием и осуществляется оно от префронтальной коры(10). Мы можем посредством своих желаний и своей воли сконцентрироваться на определённых органах чувств и даже на определённом участке кожи, но при этом громкий звук всё равно переключит наше внимание. Конечно, всё поддается тренировке и известны практики, которые позволяют развить управление вниманием.
Сосредоточенность, к примеру, на слухе может подавлять тактильные ощущения. Природная чувствительность нейронов таламуса к привыканию может говорить о неусидчивости и неспособности к длительной концентрации, таламус неминуемо переключает внимание – это защитный механизм от перенапряжения нервной ткани. Внимание в таламусе регулируется двумя путями: «снизу вверх» и «сверху вниз». Путь «снизу вверх» заложен в животных от рождения, Нас неминуемо привлекает громкие звуки, новые звуки, болевые ощущения, неприятные запахи и т.д. Эти сигналы связанны с рефлекторными актами, которые увеличивают (модулируют) чувствительность соответствующих таламических ядер. Путь «сверху вниз» — это зачастую более слабое управление вниманием и осуществляется оно от префронтальной коры(10). Мы можем посредством своих желаний и своей воли сконцентрироваться на определённых органах чувств и даже на определённом участке кожи, но при этом громкий звук всё равно переключит наше внимание. Конечно, всё поддается тренировке и известны практики, которые позволяют развить управление вниманием.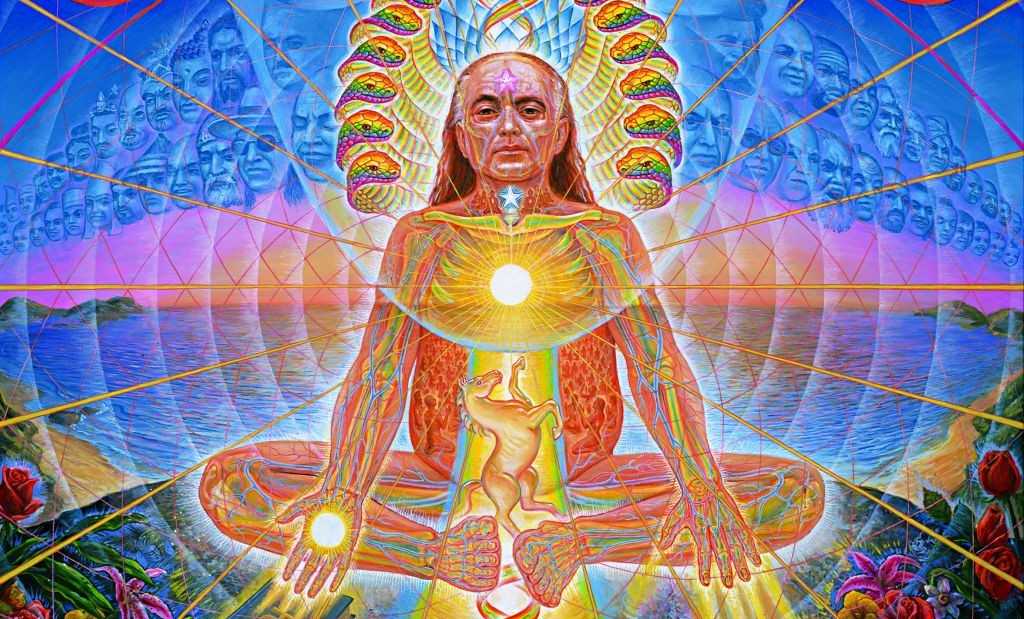
Уже на уровне таламуса информации может быть дана эмоциональная оценка, которая заложена генетически, к примеру, громкий и неожиданный звук может промодулировать миндалину и вызвать чувство страха. Нам инстинктивно неприятен крик и плачь ребёнка, а заливной смех ребёнка непременно вызывает чувство радости.
После таламуса (2) информационные пути распределяются между соответствующими областями-представителями коры, информация от органов слуха попадает в слуховую кору (3), а от внутримышечных рецепторов в сенсорную кору (6). В этих областях формируются образы первичных уровней абстрактности, далее части этих образов сливаются в ассоциативную кору (4) сюда же и добавляется копии образов команд от моторной коры (7) к мышцам речевого аппарата, всё эти образы будут являться признаками для нового образа, который будет передан в область Вернике (8).
Область Вернике (8) ответственна за восприятие речи. Человек с повреждением области Вернике может обладать прекрасным слухом и распознавать и различать различные звуки, но не способен понять речь, в том числе и собственную.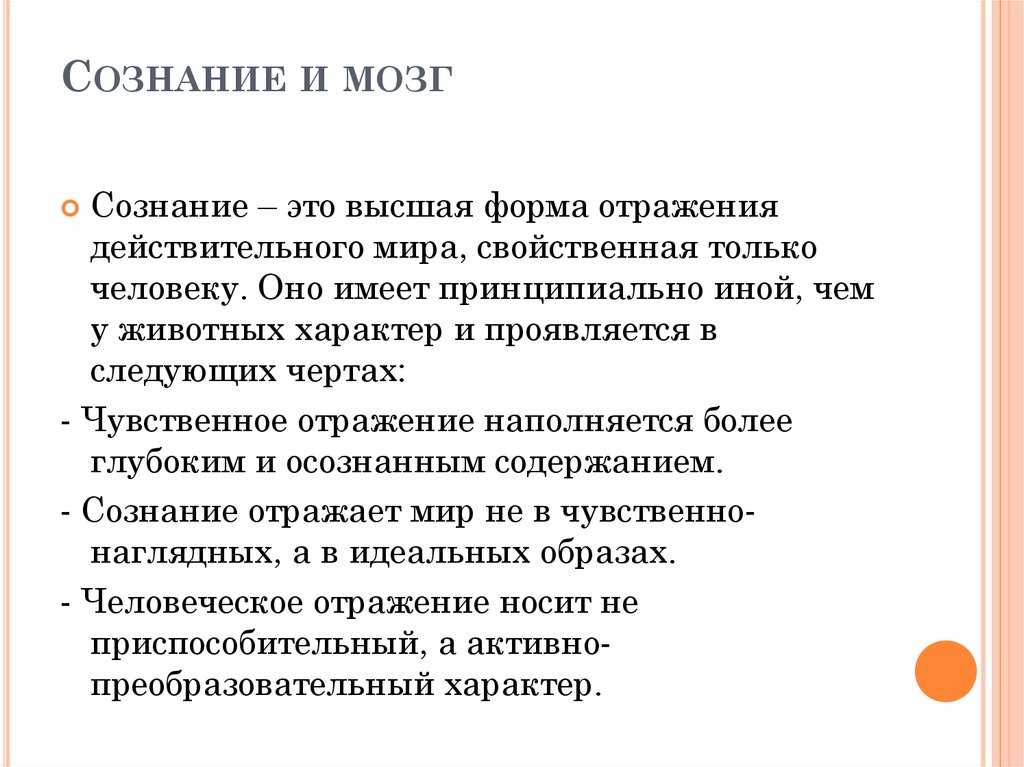 Как говорилось ранее две сенсорные системы слух, и внутримышечная чувствительность синхронно формируют образы, интерпретирующие одну и туже информацию, но воспринимается полем Вернике суммарный образ от двух систем, точнее трех следует добавить и копии команд от моторной коры к мышцам речевого аппарата. Если сенсорная информация от слуха прекратиться, а останется только чувствительность мышц, то поле Вернике всё равно будет «слышать» эту речь, ассоциативная связь этих получаемых образов очень крепка и для ассоциативной коры уже не имеет значения, какие именно признаки будут формировать образ.
Как говорилось ранее две сенсорные системы слух, и внутримышечная чувствительность синхронно формируют образы, интерпретирующие одну и туже информацию, но воспринимается полем Вернике суммарный образ от двух систем, точнее трех следует добавить и копии команд от моторной коры к мышцам речевого аппарата. Если сенсорная информация от слуха прекратиться, а останется только чувствительность мышц, то поле Вернике всё равно будет «слышать» эту речь, ассоциативная связь этих получаемых образов очень крепка и для ассоциативной коры уже не имеет значения, какие именно признаки будут формировать образ.
Человек постоянно ведет монолог «про себя» – это явление называется внутренней речью, её особенностью является то, что мышцы речевого аппарат совершают очень слабые сокращения, не приводящие к произнесению звуков и вообще видимым движениям, но достаточны для фиксации этих сокращений внутримышечным рецепторами. Между полем Вернике (8) и ассоциативной корой (4) возникают реверберации, которые и дают некоторый контекст информации и ассоциативные связи.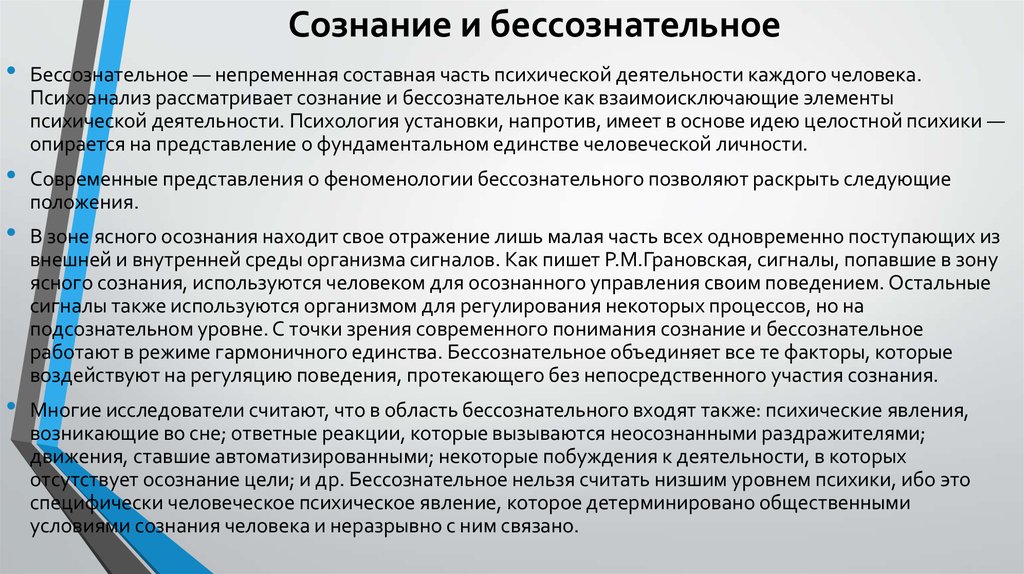
Образы поля Вернике (8) как признаки передаются области Брока (9) посредством дугового пучка – нервного скопления. Поле Брока (9) – область коры мозга ответственная за воспроизведение речи. При повреждении области Брока человек может прекрасно понимать чужую речь, но при попытках говорить вместо речи воспроизводятся нечленораздельные звуки, или существует возможность воспроизведения только одного слова. Но поле Брока имеет значение и при восприятии звука, что отражается при тяжелом поражении области. Контур: поле Брока (9), моторная кора (7), ассоциативная кора (4) и поле Вернике (8) важен для формирования цепочек звуков формирующих слова, в свою очередь цепочки слов формируют фразы и предложения.
В процессе осмысленной речи поле Брока (9) вовлекается в реверберации с префронтальной корой (10). Префротальная кора (10) очень обширная область коры головного мозга, именно она ответственна за осмысления, происходящего в данный момент времени. Реверберации с участием префронталной коры и в ней самой определяют моментальную память, ту память о информации которая необходима в процессе выполнения конкретных действий пока мы держим их в поле своего внимания, примерно в течение нескольких минут.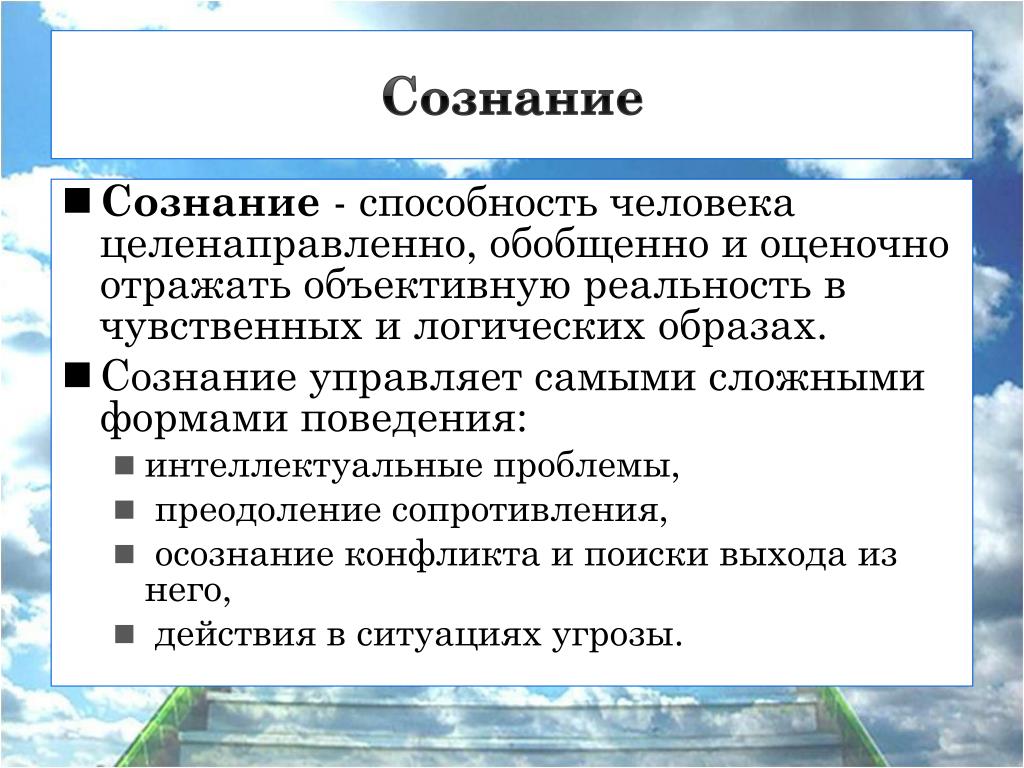 Помимо этого нашу префронтальную кору (10) можно назвать Великим подавителем, активность этой области может оказывать ингибирующее действие на эмоциональные центры, чем снижать их влияние на наше поведение.
Помимо этого нашу префронтальную кору (10) можно назвать Великим подавителем, активность этой области может оказывать ингибирующее действие на эмоциональные центры, чем снижать их влияние на наше поведение.
Повреждение префронтальной коры (10) делает человека более импульсивным, делает его подвластным порокам и действия становятся менее обдуманными и рассудительными. Можно сказать, что только благодаря постоянной активности префронтальной коры мы не подчиняемся первому зову наших потребностей, к примеру, желанию опорожнить мочевой пузырь, находясь на важном заседании, а позволит нам досидеть до конца и сделать все дела в правильном месте. Управление эмоциональными центрами позволяет, и определять какая информация будет сохраняться и обрабатывается в кругу Пейпеца (13). Обратите внимание, что информация от таламуса (2) попадает не только в области-анализаторы, но и в поясную извилину здесь интересная и полезная информация по оценке эмоциональных центров сохраняется на более длительное время.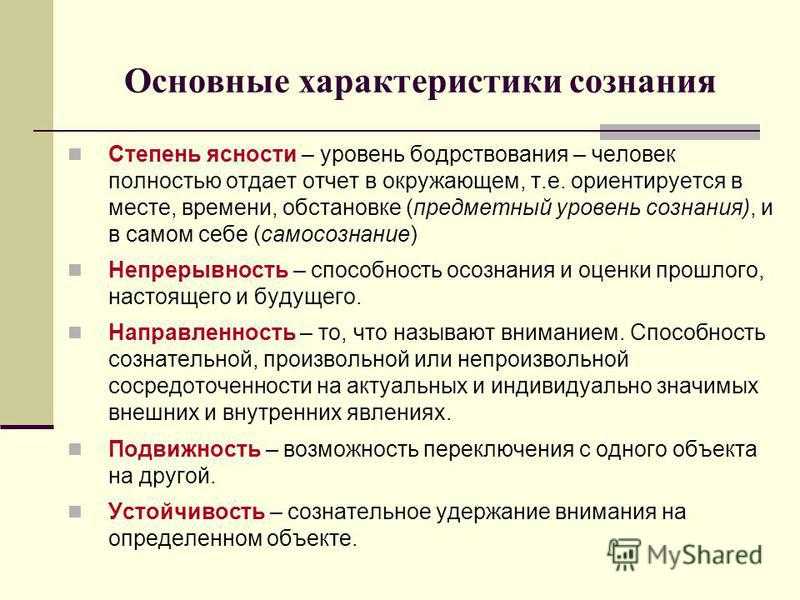
Основной контур речевого круга при внутренней речи начинается с мышц речевого аппарата (5), далее таламус (2), сенсорная кора (6), ассоциативная кора (4), поле Вернике (8), затем поле Брока (9). Брока в свою очередь «общается» с префронтальной корой (10) и посылает команды моторной коре (7). Моторная кора (7) посылает команды базальным ганглиям (11) и копию этих команд (12) мозжечку. Мозжечок (12) корректирует команды моторной коры, деля работу моторных единиц более слаженной и координированной во времени. Повреждение мозжечка может приводить к замедлению речи, так как формирование моторного действия становиться более сложной задачей. Базальные ганглии формируют окончательную форму команды для мышц речевого аппарата (5).
Очень сложный генератор.
Важно отметить, что в речевом круге при внутренней речи присутствует «физическая основа» — мышечная активность. Это делает внутреннюю речь подвластной контролю, к примеру, во время сна происходит снижение уровня тонуса всех мышц, что лишает внутренний монолог обратной связи через мышечную чувствительность, поэтому возможен только малый контур (8, 9, 7, 4, 8). Без ведома префронтальной коры (10) в процессе сна, когда тормозящее действие на эмоциональные центры снижается, активируется круг Пейпеца (13) и запускает образы, которые в течение дня могли вызвать повышенную эмоциональную оценку, это и формирует сновидения. В своей работе «Толкование сновидений» Зигмунд Фрейд очень удачно и точно описал принцип сновидений. В основе видимых снов лежит простая фраза или предложение, которое имеет для нас весомое значение в момент засыпания, но мы её не слышим, а только видим интерпретируемые на её основе зрительные образы. Не редко без дополнительного контроля с помощью «физической основы» фраза может превратиться в бред.
Без ведома префронтальной коры (10) в процессе сна, когда тормозящее действие на эмоциональные центры снижается, активируется круг Пейпеца (13) и запускает образы, которые в течение дня могли вызвать повышенную эмоциональную оценку, это и формирует сновидения. В своей работе «Толкование сновидений» Зигмунд Фрейд очень удачно и точно описал принцип сновидений. В основе видимых снов лежит простая фраза или предложение, которое имеет для нас весомое значение в момент засыпания, но мы её не слышим, а только видим интерпретируемые на её основе зрительные образы. Не редко без дополнительного контроля с помощью «физической основы» фраза может превратиться в бред.
В книге Вилейанура Рамачандрана «Мозг рассказывает. Что делает нас людьми» рассказывает о женщине рука, которой не обладала внутримышечной чувствительностью, видимо вследствие повреждения определённой области мозга. Это для неё не причиняло больших неудобств, иногда просто создавалось ощущение, что её рука находится, где то в другом месте, к примру, за спиной или где то в стороне. Такое ощущение прекращалось сразу после того как рука попадала в поле зрения, тогда всё ставало на свои места на некоторое время. Так же и с речью если не будет возможности обратной связи через органы чувств, то есть вероятность получить вместо осмысленного монолога генератор бреда, бесконтрольного блуждания очага возбуждения между областью Вернике и Брока.
Такое ощущение прекращалось сразу после того как рука попадала в поле зрения, тогда всё ставало на свои места на некоторое время. Так же и с речью если не будет возможности обратной связи через органы чувств, то есть вероятность получить вместо осмысленного монолога генератор бреда, бесконтрольного блуждания очага возбуждения между областью Вернике и Брока.
Речь – это инструмент, позволяющий нам передавать и аккумулировать информацию, декларировать и планировать действия и события, благодаря этому инструменту Человек смог создать цивилизацию. Основная форма нашего мышления – это внутренняя речь, внутренний монолог и большую часть времени в этом монологе мы уделяем социальным взаимодействиям, прорабатывая предстоящие диалоги, или воображаемые диалоги, к примеру, мы едем домой с работы и можем прогнозировать, что скажем жене (супругу, маме, брату, другу) при встрече, что она (он) ответить, что мы ответим в ответ. И этими банальными и приземлёнными вещами занят наш ум постоянно, если Вы не мыслитель-философ, витающий в облаках.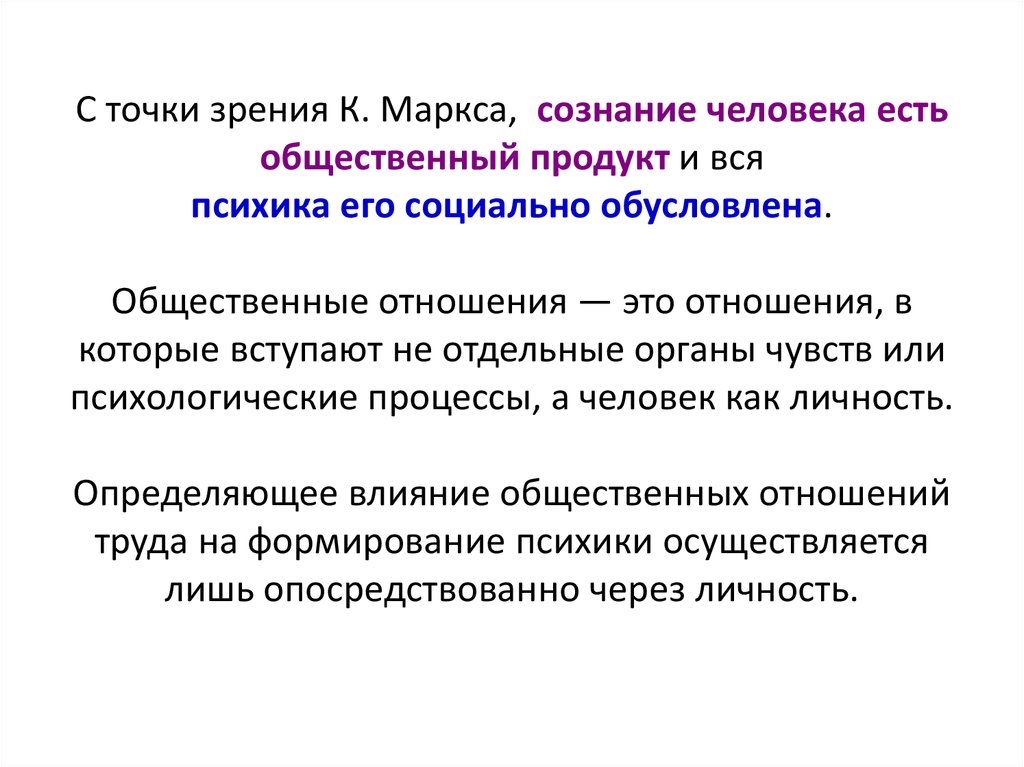 Речь позволяет нам декларировать – описывать все аспекты нашей жизни и не только, в некой системе знаков и смыслов. Попробуйте описать или спланировать свой день, используя только визуальные интерпретации (картинками) без каких либо символов и цифр, да еще так, чтобы другой человек Вас понял. Конечно, иногда достаточно одного изображения дивана, но если планов много и они подразумевают сложные социальные взаимодействия, то без системы позволяющей сделать это емко и четко не обойтись. Развитая речь является отличительной чертой Человека от животных, в остальном наш мозг и принципы его работы сходны с мозгом приматов, если не считать и более большое количество нейронов.
Речь позволяет нам декларировать – описывать все аспекты нашей жизни и не только, в некой системе знаков и смыслов. Попробуйте описать или спланировать свой день, используя только визуальные интерпретации (картинками) без каких либо символов и цифр, да еще так, чтобы другой человек Вас понял. Конечно, иногда достаточно одного изображения дивана, но если планов много и они подразумевают сложные социальные взаимодействия, то без системы позволяющей сделать это емко и четко не обойтись. Развитая речь является отличительной чертой Человека от животных, в остальном наш мозг и принципы его работы сходны с мозгом приматов, если не считать и более большое количество нейронов.
Теперь имея представления того как работает мозг и то как в этом мозгу формируется речь, мы можем ответить на вопрос: «Что такое сознание и где оно локализуется?».
Наша нервная система это единый целый механизм, который можно разбить на отдельные функциональные части. Выделить отдельные цепочки нейронов, нейронных сетей выполняющих определённую задачу, к примеру, можно выделить сенсорные анализаторы или как в примере выше цепочки-контура ответственные за речь. Эти функциональные нейронные сети я называю «личности», так как многое указывает на их определённую самостоятельность. Обычно эти личности в здоровой нервной системе обмениваются информацией, они информируют друг друга о том, что на данный момент они выполняют, о том, что на данный момент у них происходит. Это происходит за счёт большого числа связей между областями мозга. Личности действуют в кооперации, как будто это согласованная команда, никто не пытается идти против команды. И причина здесь просто в ассоциативном обучении, все, что происходит в одно время, объединяется и при большой информативности между личностями, а так же длительном совместном обучении так или иначе будет возникать слаженность в работе.
Эти функциональные нейронные сети я называю «личности», так как многое указывает на их определённую самостоятельность. Обычно эти личности в здоровой нервной системе обмениваются информацией, они информируют друг друга о том, что на данный момент они выполняют, о том, что на данный момент у них происходит. Это происходит за счёт большого числа связей между областями мозга. Личности действуют в кооперации, как будто это согласованная команда, никто не пытается идти против команды. И причина здесь просто в ассоциативном обучении, все, что происходит в одно время, объединяется и при большой информативности между личностями, а так же длительном совместном обучении так или иначе будет возникать слаженность в работе.
Схемы, сформированные нейронами и конфигурациями связей между ними в Человеческой нервной системе можно дробить на очень мелкие и простейшие, но мы выделим только несколько основных. Во-первых, возможно выделить сенсорные анализаторы, для различных типов сенсорных сигналов определяются свои структуры. Для зрительной информации — это зрительные бугры и затылочная часть коры больших полушарий. Слух – области в височных долях, сенсорная информация – это теменные области коры, вкус небольшой участок в «островке», обоняние – обонятельные луковицы и небольшой участок в височных областях. Задача этих нейронных сетей первичная обработка сенсорной информации, как результата работы формирование некого образа и передача его в ассоциативные области коры. Ассоциативная кора связывает разлитые образы, от анализаторов формируя на их основе свои образы, эта область ответственна за восприятие окружающего мира, именно она формирует целостность окружающей нас картины мира. Так же есть цепочки нейронов способные описывать, декларировать образы, сформированные ассоциативной корой, они локализованы в зонах Брока и Вернике, но речевые механизмы могут выходить за пределы этих областей. Область ответственной за принятие решений является префронтальная кора, наши мысли в форме внутренней речи – это реверберации между префронтальной корой и областью Брока.
Для зрительной информации — это зрительные бугры и затылочная часть коры больших полушарий. Слух – области в височных долях, сенсорная информация – это теменные области коры, вкус небольшой участок в «островке», обоняние – обонятельные луковицы и небольшой участок в височных областях. Задача этих нейронных сетей первичная обработка сенсорной информации, как результата работы формирование некого образа и передача его в ассоциативные области коры. Ассоциативная кора связывает разлитые образы, от анализаторов формируя на их основе свои образы, эта область ответственна за восприятие окружающего мира, именно она формирует целостность окружающей нас картины мира. Так же есть цепочки нейронов способные описывать, декларировать образы, сформированные ассоциативной корой, они локализованы в зонах Брока и Вернике, но речевые механизмы могут выходить за пределы этих областей. Область ответственной за принятие решений является префронтальная кора, наши мысли в форме внутренней речи – это реверберации между префронтальной корой и областью Брока. Далее можно выделить область ответственные за моторные действия, эти области подчинены некой иерархии, во главе моторная кора, далее базальные ганглии и мозжечок, и формирование базовых движений возможно в ретикулярной формации и спинном мозге. Но при этом нейронные сети в этих образованиях могут быть полностью самостоятельными, если нет команд свыше.
Далее можно выделить область ответственные за моторные действия, эти области подчинены некой иерархии, во главе моторная кора, далее базальные ганглии и мозжечок, и формирование базовых движений возможно в ретикулярной формации и спинном мозге. Но при этом нейронные сети в этих образованиях могут быть полностью самостоятельными, если нет команд свыше.
Подобно электрическим схемам, которые могут выполнять свои функции только при наличии электричества, биологические нейронные сети девствуют только при наличии нервного возбуждения. И здесь самое интересное! Это нервное возбуждение для нейронных схем лимитировано. Так уж сложилось, что мозг работает корректно только когда поддерживается определённый уровень единовременной активности нервной ткани, повышенная активность может привести к эпилептическому припадку, заниженная может погрузить мозг в сон. Уровень активности регулируется таламусом, посредством фильтра входящих сигналов, а так же механизмом латерального торможения/побуждения в коре и поддерживается на определённом уровне (диапазон достаточно широк). Таким образом, нервная активность в мозге является ресурсом, который распределяется среди нейронных схем. Конечно, это распределение неравномерно и зависит от функциональных особенностей, к примеру, зрительным анализаторам для обработки большого массива данных от рецепторов требуется большая часть нервного возбуждения как ресурса. Распределите нервного возбуждения среди префронтальной коры, ассоциативной коры и областей, ответственных за речь – это то, чем является наше «Я», наше сознание или фокус восприятия.
Таким образом, нервная активность в мозге является ресурсом, который распределяется среди нейронных схем. Конечно, это распределение неравномерно и зависит от функциональных особенностей, к примеру, зрительным анализаторам для обработки большого массива данных от рецепторов требуется большая часть нервного возбуждения как ресурса. Распределите нервного возбуждения среди префронтальной коры, ассоциативной коры и областей, ответственных за речь – это то, чем является наше «Я», наше сознание или фокус восприятия.
Рене Декарт искал, по крайней мере, одну структуру мозга, которая бы была непарной, и в результате решил, что это маленькая шишковидная железа (эпифиз) позади ствола головного мозга – является вместилищем души, так как считал душу чем-то неделимым. Многие психологи и философы издревле считают сознание целостным, неделимым и чем-то постоянным. Ведь эту иллюзию наш мозг создает крайне убедительно. Но оказалось, что эпифиз состоит из двух симметричных половинок, почти зеркальных друг по отношению к другу.
Сознание – это сущность подающиеся невероятному фрагментированию, вплоть до активности одного нейрона. В некоторых случаях нервная активность может быть сконцентрирована в определённых областях мозга, к примеру, при решении сложной логической задачи требуется сделать акцент на префронтальной коре, а при расслабленном бездействии возбуждение рассеянно распределено по всей коре. Когда мы ходим описать свои субъективные ощущения, фокус восприятия «смещается» к речевым областям, тем самым мы в совершенстве можем описать только «декларативное Я». Когда фокус восприятия сильно смещен к префронтальной коре, то сознание выходит из зоны речевого описания. Можно посчитать, что сознание – это то, что подчиняется внутреннему монологу, но многие решения мы принимаем без участия внутренней речи. Сознательным мы считаем то, что можем описать, а бессознательным то, что не подчиняется «декларативному Я».
Более наглядно разобраться в том какова природа сознания помогают разливного рода патологии в работе мозга.
Каллозотомия – это операция по рассечению мозолистого тела, область мозга, представляющая собой скопление нервных путей соединяющих два полушария мозга, позволяющая им обмениваться информацией. Данную операцию проводят с целью уменьшения следствий эпилептических припадков. Один из побочных эффектов операции – сидром чужой руки. В человеческом теле как будто заключено две личности управляющих разными половинами тела, причем, так как в левом полушарии заключены основные речевые центры (в большинстве случаев), а так же ему подконтрольна правая сторона тела, то отвечать на вопросы будет именно личность, управляющая правой рукой. Эта личность может жаловаться на несогласованные действия со стороны левой руки, которая может брать вещи, или совершать действия которые не входили в планы левого полушария. Это возникает по причине того, что личности перестали слышать друг друга, что приводит к рассогласованной работе нейронных сетей.
Еще одни пример. Апраксия – неврологическое состояние, характеризующиеся неспособностью выполнять целенаправленные движения, не смотря на то что человек знает, что от него требуется, хочет это сделать и обладает нужными физическими данными.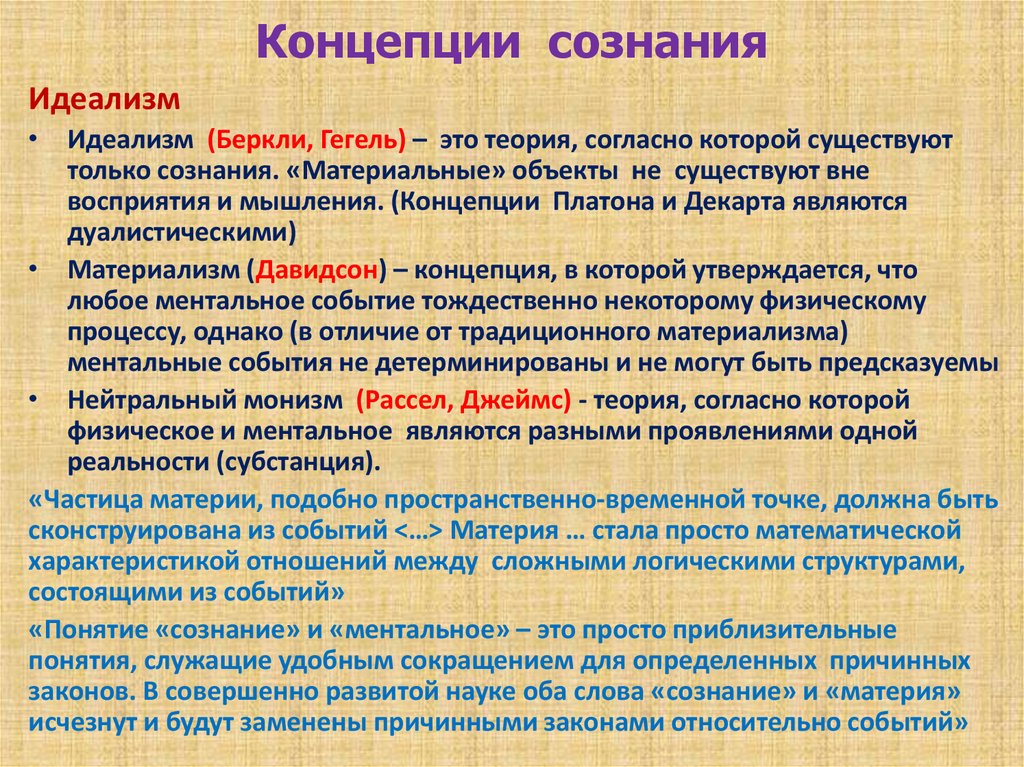 Апраксия может возникнуть вследствие разрыва связи между областями ответственными за формирование моторных команд и областью ответственной за принятие решений, префронтальной корой.
Апраксия может возникнуть вследствие разрыва связи между областями ответственными за формирование моторных команд и областью ответственной за принятие решений, префронтальной корой.
Разрыв связи между зрительным анализатором и префронтальной корой может привести к видящей слепоте или корковой слепоте, при которой человек слеп, но при этом способен обходить препятствия, или с высокой вероятностью угадывать, в какую сторону движется мишень-точка при проведении экспериментов.
Рекомендую к просмотру выступление Джил Боулт Тейлор на конференции TED. В контексте вышеизложенного описываемая ей ситуация становится более яснее.
Мистические переживания ученого Джил Боулт Тейлор
Наш мозг искусно создает иллюзию внутреннего наблюдателя, да и вообще создает целый ряд иллюзий, в том числе даруя нам ощущение, что мы являемся специалистами в области знаний о сознании, так как им обладаем. Об этом еще одно выступление на конференции TED, но уже Дэна Деннета.
Дэн Деннет о нашем сознании
Подводя итоги можно сказать, что ответ на вопрос о сознании мы давно уже имеем, остаётся только его принять. Рефлекторная деятельность, речевой круг, реверберации и циркуляция нервного возбуждения давно известные явления, но очень заманчиво создать вокруг понятия сознания мистический ореол и бесконечно искать некой чудесной его трактовки.
P.S. Чем больше изучаешь мозг и нервную систему, тем больше поражаешься невероятным мастерством природы создавать системы, элементы которой столь взаимосвязаны. Один и тот же механизм может одновременно выполнять несколько функций, и все механизмы сплетены между собой, что приводит к необходимости обладания некой целостной картины работы мозга при изучении деталей. Когда я начал писать статью о сознании, то думал, что уложусь в небольшой этюдик, но в процессе написания для полноты картины решил упоминать некоторые темы, поэтому возможно получилось несколько скомкано, а хотелось еще о многом рассказать.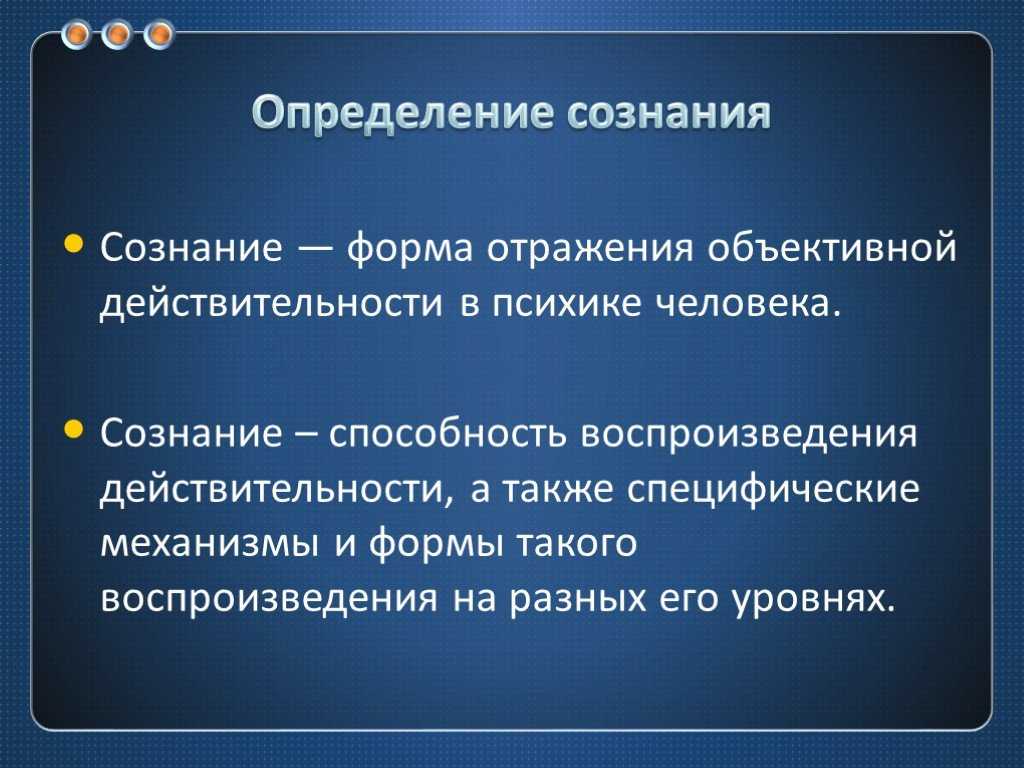 И как всегда дьявол кроется в деталях, а работа нервной системы просто соткана из различных нюансов и тонкостей, к примеру, механизм синаптической задержки, как он изменяется и от чего зависит, или как происходит эмоциональное подкрепление событий происходивших ранее во времени и т.д. Возможно, стоит систематизировать и сформировать данный материал в какой-либо форме, который просто и доступно на инженерном уровне помог бы понять механизмы работы мозга. И конечно работа над симулятором продолжается, намечены цели и определен план-минимум.
И как всегда дьявол кроется в деталях, а работа нервной системы просто соткана из различных нюансов и тонкостей, к примеру, механизм синаптической задержки, как он изменяется и от чего зависит, или как происходит эмоциональное подкрепление событий происходивших ранее во времени и т.д. Возможно, стоит систематизировать и сформировать данный материал в какой-либо форме, который просто и доступно на инженерном уровне помог бы понять механизмы работы мозга. И конечно работа над симулятором продолжается, намечены цели и определен план-минимум.
» Симулятор нервной системы для Windows
» Сохранения для Симулятора (примеры из данной статьи)
С наступившим Новым Годом!
«Что есть сознание человека и зачем оно?» — Яндекс Кью
ПопулярноеСообщества
Стать экспертом Кью
ПсихологияЧеловек+2
·
8,7 K
ОтветитьУточнитьЛучший
Евгений Пустошкин
Психология
431
Клинический психолог, главный редактор эл.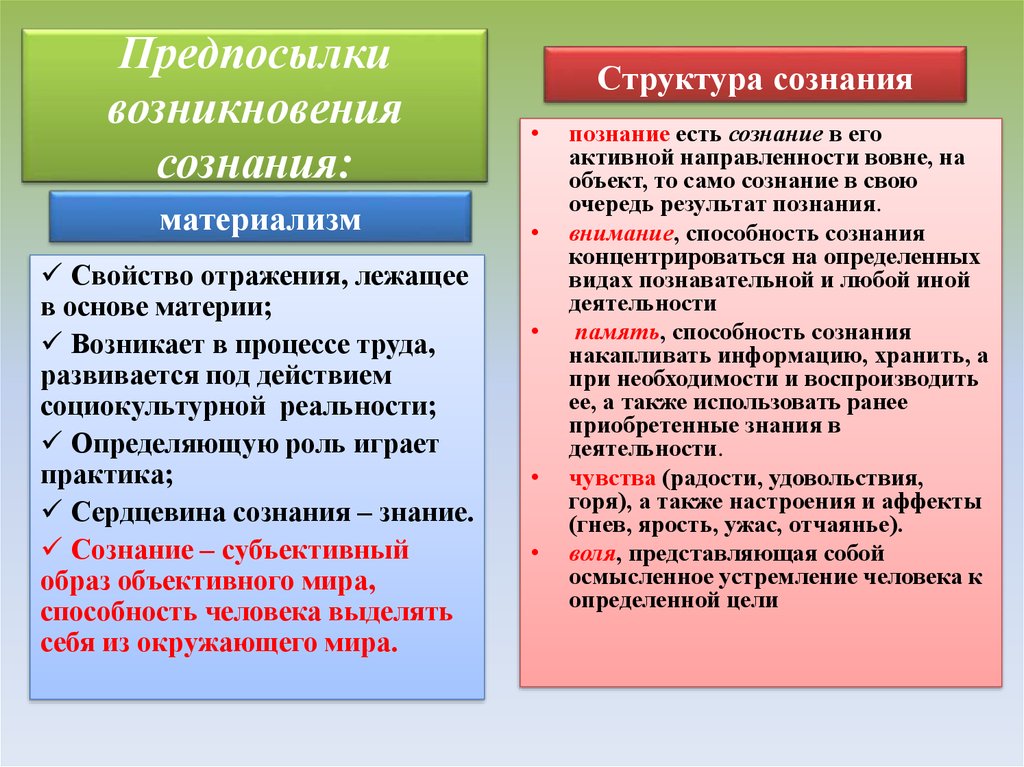 журнала «Эрос и Космос», переводчик книг Кена… · 24 июл 2020 · pustoshkin.com
журнала «Эрос и Космос», переводчик книг Кена… · 24 июл 2020 · pustoshkin.com
Слово «сознание» является тем, что философ и математик Василий Васильевич Налимов, разрабатывавший проблематику вероятностного мышления, создавший вероятностную модель языка и написавший книгу «Спонтанность сознания», называл «полифоническим термином».
Иными словами, с перспективы семиотики, слово «сознание» — это означающее, означаемые которого весьма многогранны и зависят от философской и психологической традиции, из которой исходит тот или иной конкретный индивидуум.
Но при этом это не просто условная языковая конструкция, а слово, указывающее на реально существующий, неописуемый, трудно уловимый референт — причём такой референт, который объединяет всех людей и, по-видимому, всех сознающих существ.
Чтобы более комплексно подойти к пониманию феномена сознания, считаю целесообразным процитировать отрывки из своей работы «Междисциплинарный подход к исследованиям сознания» (2008).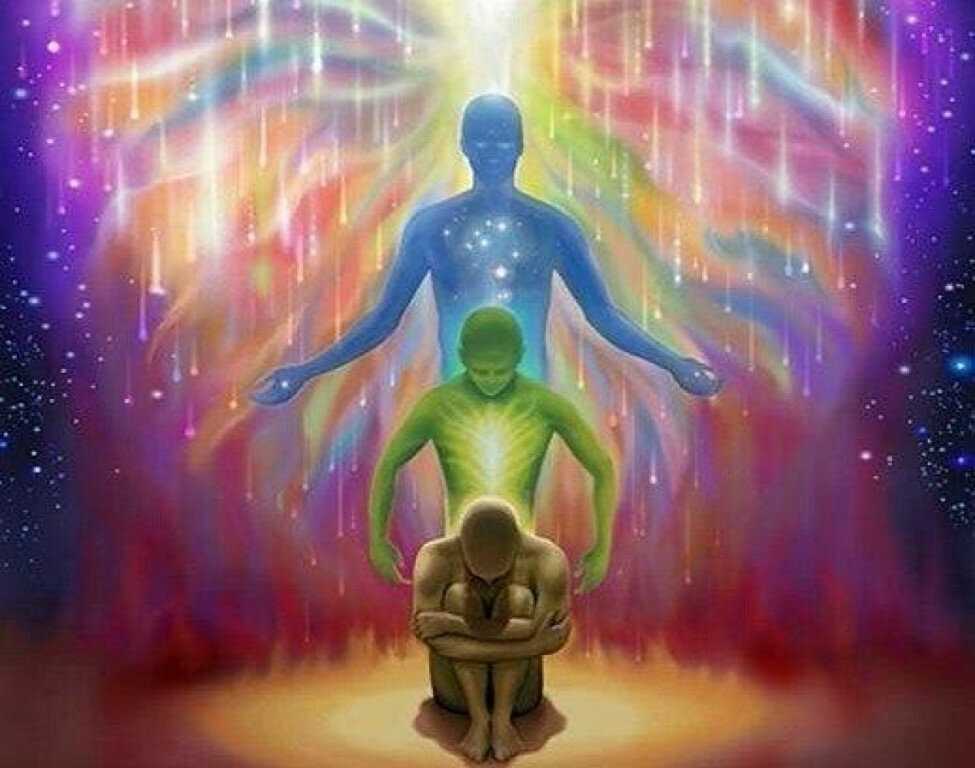
Что такое «сознание»
Сознание — это то, что доступно читающему данную страницу прямо сейчас, в настоящий момент, и всё же дать вразумительное «строго научное» и уж тем более «строго естественнонаучное» определение этой естественной данности, ведомой каждому из людей, невероятно сложно (и, судя по всему, невозможно), если в своих академических изысканиях по проблемам сознания мы игнорируем простой феноменологический факт: сознание — это всё, что субъективно доступно здесь и сейчас каждому из нас: в нём возникают наше ощущение тела, наши мысли, наши высшие переживания; в нём возникает субъективная интерпретация объективных и социокультурных реальностей. Когда же факт реальности субъективных реальностей признаётся, когда признаётся факт их значимости в теоретических построениях, определение того, что следует рассматривать как сознание, превращается в более простую задачу.
В классической модернистской науке начала — середины двадцатого века наблюдалась имевшая тотальный характер тенденция редуцировать все вопросы о сознании (и в итоге сознание как таковое) до вопросов чисто объективных предметов и взаимодействий между ними, при этом всё субъективное было вынесено за пределы науки как «неподвластное эмпирическому подходу». Б. А. Уоллэс обозначил этот феномен — захват радикальным научным материализмом доминирующего положения в науке первой половины прошлого столетия — метким термином «табу на субъективность». Это привело к отторжению от науки исследований субъективности, интроспекции, феноменологии, созерцательных и духовных традиций Востока и Запада. В действительности же модернистская эмпирическая эпистемология, в рамках которой действовал и великий американский психолог Уильям Джеймс, первоначально понималась достаточно широко, чтобы включать субъективные измерения человеческого бытия, и, к примеру, классическая работа Джеймса «Многообразие религиозного опыта» предлагала понятие чистой феноменологии как «радикального эмпиризма» (термин самого Джеймса).
Б. А. Уоллэс обозначил этот феномен — захват радикальным научным материализмом доминирующего положения в науке первой половины прошлого столетия — метким термином «табу на субъективность». Это привело к отторжению от науки исследований субъективности, интроспекции, феноменологии, созерцательных и духовных традиций Востока и Запада. В действительности же модернистская эмпирическая эпистемология, в рамках которой действовал и великий американский психолог Уильям Джеймс, первоначально понималась достаточно широко, чтобы включать субъективные измерения человеческого бытия, и, к примеру, классическая работа Джеймса «Многообразие религиозного опыта» предлагала понятие чистой феноменологии как «радикального эмпиризма» (термин самого Джеймса).
<…> [К] концу двадцатого века сформировались три крупных и, как казалось, конкурирующих друг с другом эпистемологических подхода к реальности: 1) первый подход (предмодернистская эпистемология) говорил о важности данных от первого лица; 2) второй подход (модернистская эпистемология) говорил о важности данных от третьего лица; и 3) третий подход (постмодернистская эпистемология) говорил о том, что любое познание опосредуется межличностными реальностями второго лица. Несмотря на то, что противостояние этих подходов обострилось именно в двадцатом веке, все они имеют долгую историю, корнями, по всей видимости, уходящую в самые основы человеческого сознания. <…>
Несмотря на то, что противостояние этих подходов обострилось именно в двадцатом веке, все они имеют долгую историю, корнями, по всей видимости, уходящую в самые основы человеческого сознания. <…>
Таким образом, интегральная теория подразумевает, что сознание — это не просто размерность субъективного опыта, доступная исключительно феноменологической методологии: это размерность субъективного опыта, имеющая свои корреляты в виде объективных процессов (нейрональные корреляты сознания) и вплетённая в тесную сеть социокультурных взаимодействий (культурный фон), — причём все эти аспекты имеют свои собственные уровни развёртывания. Это означает, что, к примеру, нейрональные корреляты психического следует рассматривать, учитывая все уровни — спинномозговых рефлексов, ствола мозга, коры больших полушарий и т. д.; сосредоточение только лишь на одном уровне (например, изучение неврологических основ сознания на уровне рефлексов без учёта более комплексных уровней организации), как и игнорирование какого-либо сектора (например, игнорирование вопросов субъективного опыта), в вопросе междисциплинарного исследования сознания не сможет привести к более полному и более целостному пониманию картины сознания.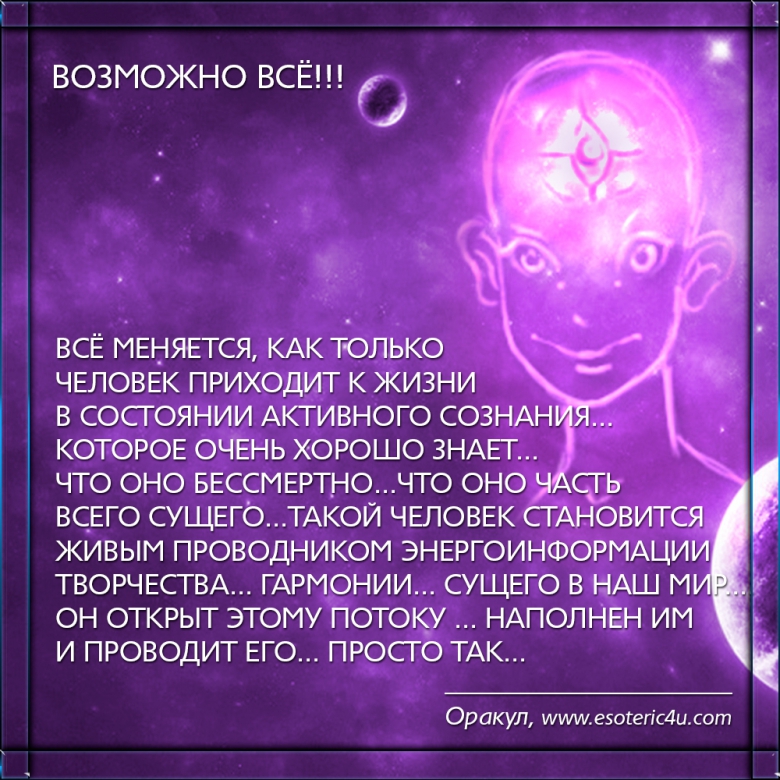 Как мы видели, современная наука пришла к пониманию, что только согласованный междисциплинарный (трансдисциплинарный) подход способен расширить горизонты нашего понимания проблем и задач, стоящих перед сферой исследований сознания.
Как мы видели, современная наука пришла к пониманию, что только согласованный междисциплинарный (трансдисциплинарный) подход способен расширить горизонты нашего понимания проблем и задач, стоящих перед сферой исследований сознания.
<…> [Кен] Уилбер, опираясь на философскую систему буддизма мадхъямаки и йогачары, предлагает рассматривать сознание как нечто пустотное, некую субъективную открытость, в которой обретают форму и развиваются различные линии развития: «Сознание само по себе ничем не является: это просто степень открытости или пустотности, просвет, в котором проявляются феномены различных линий (но само по себе сознание не является феноменом: это пространство, в котором феномены возникают)».
* * *
В общем, понимание, что такое сознание, во всей многогранности и комплексности этого «феномена» (трудно назвать феноменом, или явлением, то, что всегда сокрыто от объективизации: мы всегда изучаем сознаваемые объекты, которые иногда называем «сознанием», пытаясь сузить широкое понятие и нарезать его на съедобные кусочки, но сознавание как таковое, лежащее в сердцевине человеческого сознания, зачастую ускользает от нас) требует рассматривать его, как минимум, из перспектив-методологий 1-го, 2-го и 3-го лица.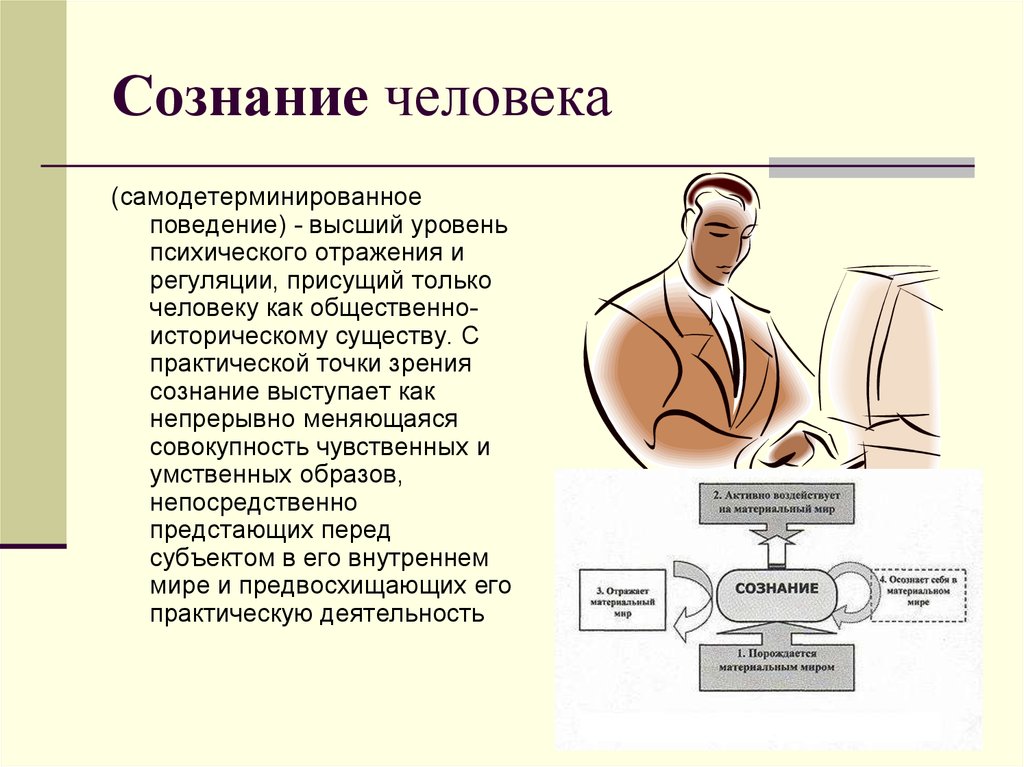
Именно интегральное сочетание этих перспектив (взглядов изнутри и снаружи на сознание в его индивидуальных и коллективных гранях) позволяет ухватить более-менее целостный образ, что такое сознание. (См. также статью Уилбера «Интегральная теория сознания».) Сознание есть то, что имеет корреляты во всех этих перспективах (к ним можно добавить ещё и четвёртую, системную перспективу), которые в интегральной модели AQAL [аквал] Кена Уилбера называются квадрантами «я», «мы», «оно» и «они» (см. рис. 1).
Рис. 1. Интегральная модель AQAL Кена Уилбера применительно к человеку
Соответственно, что же такое именно человеческое сознание?
Человеческое сознание — это сознание, воплощённое в Homo sapiens (биологическом виде — носителе этого сознания, имеющем определённые биологические и социальные характеристики).
Человек обладает характерной биологической структурой и особенно нейробиологическими структурами (неокортекс, «триединый мозг» и т. д.), служащими биоматериальным проводником для поддержания определённых степеней сознания как пустотного пространства субъектности, в котором (в жизни каждого субъекта) проявляется весь мир.
д.), служащими биоматериальным проводником для поддержания определённых степеней сознания как пустотного пространства субъектности, в котором (в жизни каждого субъекта) проявляется весь мир.
Рис. 2. Чем выше сложность организации материи, тем больше (глубже) сознание
Чем более развитой является нейробиологическая структура вида (в рамках нашей эволюционной ветви), тем больше «ёмкость сознания» и большее количество всё более сложных и многообразных феноменов сознательно (и бессознательно) включаются в пространстве сознания (рис. 2).
Сознание, когда оно воплощено через биологического индивидуума, всегда есть со-знание, совместное ведание мира, пребывание в культурных полях межсубъективных резонансов и нетворках (сетях) опосредуемых материальными знаками коммуникаций.
Само сознание в индивидууме в плане той глубины, которую оно таит и потенциально может раскрывать, структурировано иерархически, многоуровнево (см. рис. 3). Мы содержим в себе этажи архаического и личного бессознательного (которые упластовались туда как филогенетически, так и в результате онтогенеза, или индивидуального развития), а также, по-видимому, и даже субчеловеческие эволюционные структуры сознания (которые, на каком-то уровне, возможно, уместнее называть уже протосознанием).
рис. 3). Мы содержим в себе этажи архаического и личного бессознательного (которые упластовались туда как филогенетически, так и в результате онтогенеза, или индивидуального развития), а также, по-видимому, и даже субчеловеческие эволюционные структуры сознания (которые, на каком-то уровне, возможно, уместнее называть уже протосознанием).
Также сознанию присуща полифазность — динамизм состояний сознания (все люди проходят цикл бодрствование — сновидение — глубокий сон без сновидений), также всем людям, как и, вероятно, другим животным, свойственна способность вхождения в изменённые состояния сознания (ИСС), как, например, описанные Абрахамом Маслоу пиковые переживания.
Рис. 3. Абрахам Маслоу, Жан Гебсер, Клэр Грейвз, Кен Уилбер. Уровни развития и эволюции сознания
Зачем сознание?
Если брать самый широкий и глубокий взгляд, который имеется сегодня, то можно говорить не просто о том, что сознание играет какую-то роль в адаптации и эволюции видов (это, скорее, эволюционный редукционизм: да, такой момент есть, и факторы эволюционного отбора играют большую роль в эволюционной динамике сознания, однако сознание, по-видимому, это настолько фундаментальная невещественная «вещь», что она ускользает и от подобного, казалось бы, всеохватного эволюционного нарратива).
Можно говорить, как предполагают некоторые исследователи — например, Томас Нагель, известный философ сознания, написавший книгу «Сознание и Вселенная: Почему материалистическая неодарвинистская концепция природы почти точно ложна» (Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False, 2012), — что сознание является неотъемлемым, исконным свойством Вселенной как таковой (Нагель предполагает нечто вроде панпсихизма).
Уилбер, несомненно, с ним согласится, формулируя, правда, более осторожный вариант подобного воззрения: панинтериоризм (англ. paninteriorism) — все эволюционные уровни сложности организации материи имеют некий внутренний коррелят (интериорность), от субатомных частиц и атомов (с их «прегензией», если обратиться к термину А. Н. Уайтхеда) до растений, простейших организмов и самых сложных многоклеточных организмов.
Таким образом, можно говорить не столько о том, «зачем» человеческое сознание (хотя об этом, как и обо всём ином, тоже можно говорить), сколько о том, что Вселенная естественным образом плодоносит, в том числе, и человеческим сознанием.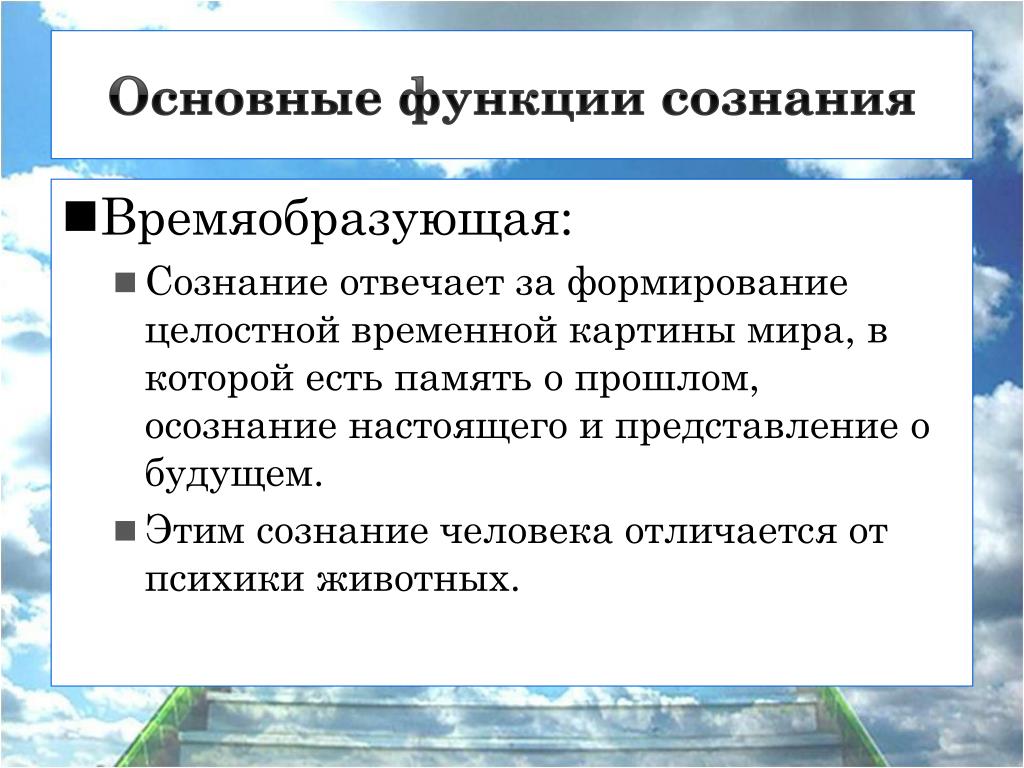 Почему? Быть может, от внутренне присущего ей изобилия.
Почему? Быть может, от внутренне присущего ей изобилия.
Алан Уотс
В завершение приведу созвучное высказывание Алана Уотса, знаменитого писателя-автодидакта, просветителя, буддолога-востоковеда, друга Олдоса Хаксли и популяризатора восточных философий и медитации:
«Вы не можете вывести разумный организм, такой как человек, из неразумной вселенной. В Новом Завете говорится, что „инжир не растет на чертополохе, а виноград на шиповнике“. Это в равной степени относится к миру. Вы не найдете разумный организм, живущий в неразумной среде.
К примеру, в саду есть дерево, и каждое лето здесь родятся яблоки, и поэтому мы называем дерево яблоней. Дерево называется яблоней потому, что плодоносит яблоками. Хорошо, теперь задумайтесь о Солнечной системе посреди нашей галактики. Одна из особенностей Солнечной системы заключается в том, что, по крайней мере на планете Земля, она рождает людей, точно так же, как яблоня рождает яблоки. Может быть, два миллиона лет назад инопланетяне прилетели из другой галактики на летающей тарелке и, взглянув на нашу солнечную систему, пожали плечами и сказали: „Ничего особого, просто куча камней“.
И улетели. Позже, может быть, два миллиона лет спустя, они пришли и снова посмотрели на нее и сказали: „Извините! Мы думали, что это просто куча камней, но эта штука заплодоносила людьми. Эта штука живая, она создало что-то, обладающее разумом“.
Мы вырастаем на Земле, на Вселенной точно так же, как яблоки растут на яблоне. Если эволюция что-то значит, то она значит ровно это». (Уотс А. «Миф о себе», см. также его аудиолекцию на англ. языке.)
Transcendelia: блог психолога Евгения Пустошкина
Перейти на pustoshkin.comNichts Niemand
28 июля 2020
Что-то не замечаю я тут интеграции: это эклектическое сочетание. Интегральная теория должна объяснить, как от… Читать дальше
Комментировать ответ…Комментировать…
Иван Шишлянников
Философия
506
Постмодернизм и эклектизм. · 30 июл 2020 · stihi.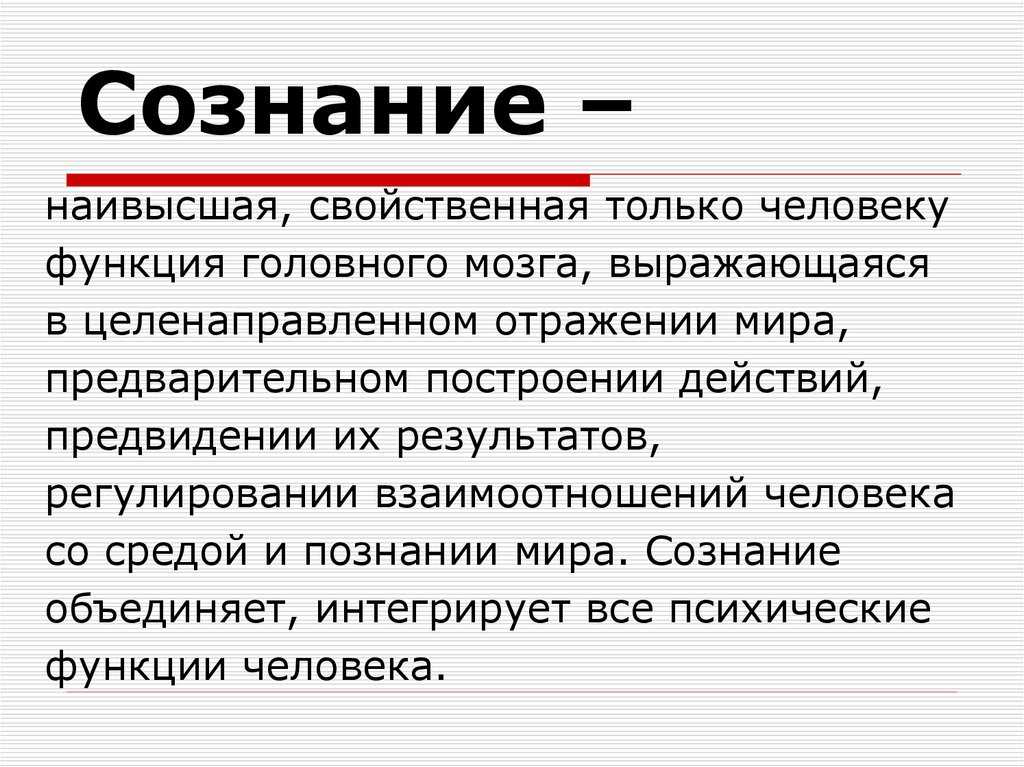 ru/avtor/justicegrom
ru/avtor/justicegrom
Сознание даёт нам возможность по-разному взаимодействовать с окружающим миром. К примеру можно тренировать свой разум и применять его на практике. Есть две возможности применения сознания (разума), которые пришли мне в голову — быть умным в практическом плане: знать такие вещи как: проводка, оплата счётчиков, укладка кафеля, покупка хороших овощей и фруктов на рынке и… Читать далее
Современное богословие.
Перейти на vk.com/sacral_anarchyГаля Волошина
6 августа 2020
у меня вопрос почему душа помнит тело? А если помнит тело то значит может помнить и мозг . Это так?
Комментировать ответ…Комментировать…
Влад Николаев
Философия
145
ученый-пенсионер · 13 нояб 2021
Для начала оговорюсь, что в этом вопросе неизбежны споры как о терминах, так и по существу.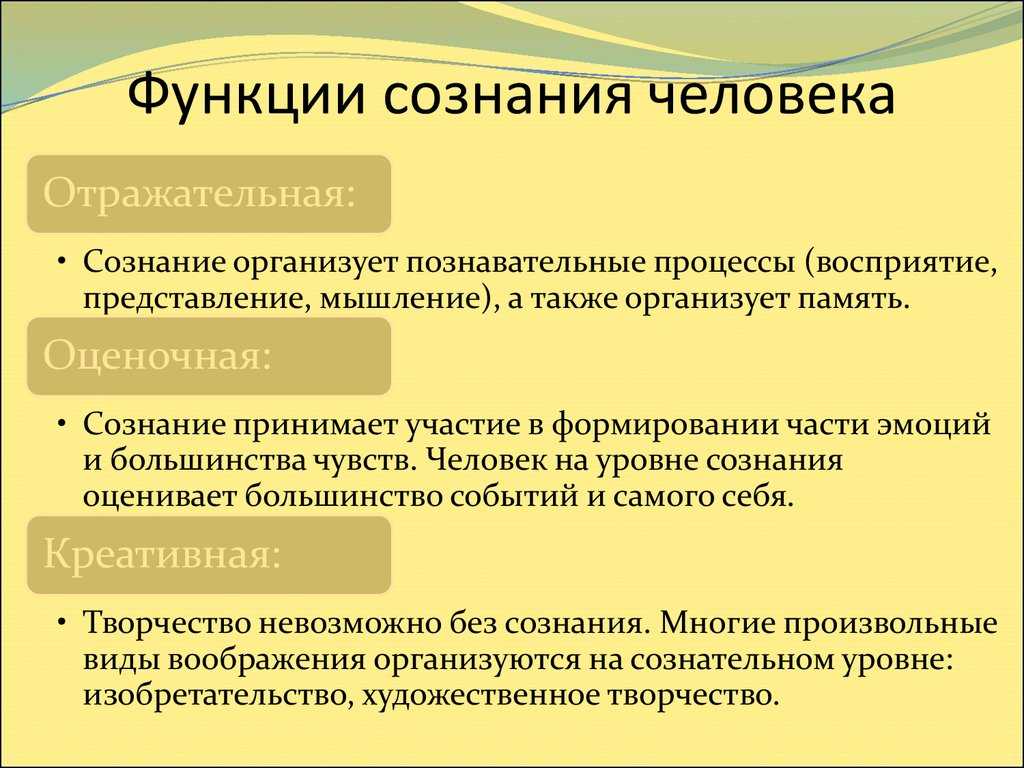 И не в силу его особенной научной сложности (хотя он действительно сложен), а по мировоззренческим и политико-идеологическим причинам. А теперь кратко изложу научный взгляд:
Что есть сознание? Мыслей своих отражение, И через это – к познанию сути движение. Есть у животных… Читать далее
И не в силу его особенной научной сложности (хотя он действительно сложен), а по мировоззренческим и политико-идеологическим причинам. А теперь кратко изложу научный взгляд:
Что есть сознание? Мыслей своих отражение, И через это – к познанию сути движение. Есть у животных… Читать далее
Виктор Ушаков
21 ноября 2021
А где ответ на вопрос?
Где в этом ответе наука?
Извините, но так не пойдёт.
Комментировать ответ…Комментировать…
Александр Борискин
13
математика, физика, «физика дела», модель сознания · 25 авг 2021
Сознание это состояние сложного объекта, осознающего себя субъектом в окружающем его мире. Необходимая для этого степень сложности объекта должна обеспечивать его автоматическое воспроизведение в содержащем его мире, восприятие внешних воздействий на этот объект в виде ощущений субъекта, как воздействия на себя. Обязательным является наличие памяти, как истории себя… Читать далее
Обязательным является наличие памяти, как истории себя… Читать далее
Комментировать ответ…Комментировать…
Илья Петров
28
обо Мне — о Фениксе https://vk.com/gullwayder?w=wall21709123_2905/all Школа ЧелоВека https… · 23 авг 2020
СоЗнание ЧелоВека — проявление СамоСоЗнания Абсолюта в нас. Типа голограммы. Но, то, что большинство принимает за СоЗнание — НЕ СоЗнание, а лишь эффект переживания Наблюдения за СВОЕЙ ПРОГРАММОЙ. СоЗнание у одного на миллион возможно можно встретить.
Комментировать ответ…Комментировать…
Игорь Крутицкий
5
Психолог, преподаватель, да и просто — мыслитель. · 2 июн 2021
Со-знание это то что содержит знание.
Многие люди знают, например, что огонь обжигает, а вода мокрая, знают что как правило у каждого человека есть имя и каждый человек родился у каких то родителей.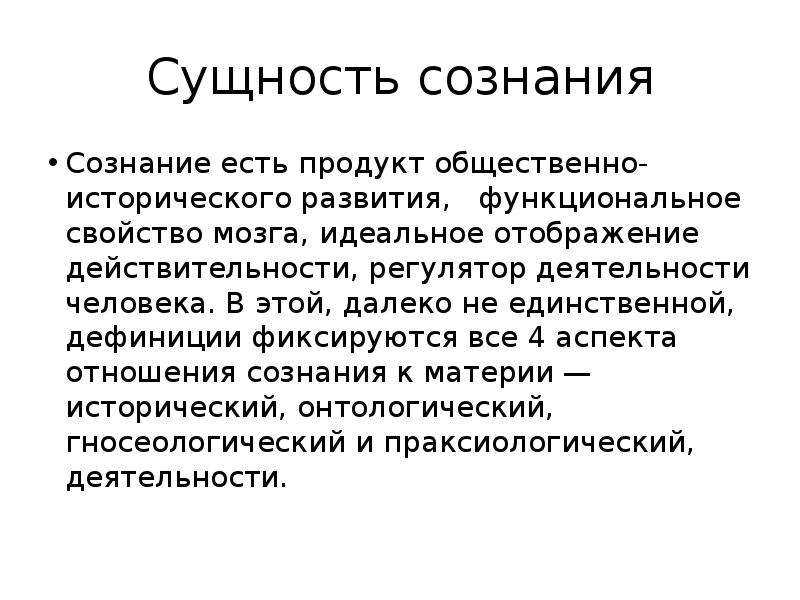 Еще много много других знаний хранит каждый человек, и все знания субъективны.
То где хранятся все знания человека и есть сознание, оно содержит знания человека.
Для этого… Читать далее
Еще много много других знаний хранит каждый человек, и все знания субъективны.
То где хранятся все знания человека и есть сознание, оно содержит знания человека.
Для этого… Читать далее
Комментировать ответ…Комментировать…
Илья Емельянов
532
Генный инженер, биофизик, биомеханик. Создатель ДНК-компьютера. ГИП производства… · 5 авг 2020
Как показывает одно из последних исследований (https://www.google.ru/amp/s/nplus1.ru/news/2020/05/29/me-myself-bye/amp) указывает на связь распределения и концентрации глутамата в головном мозге с эго — то есть самосознанием и ощущением самого себя, своих чувств. Сознание — это эволюционная необходимость, которая ставит нас над инстинктами. Сознание позволяет нам… Читать далее
Семен Комаров
8 августа 2020
Это не выражает самой квинтесенции сознания, ибо всё что бы самим сознанием не было выражено выражает его само и со.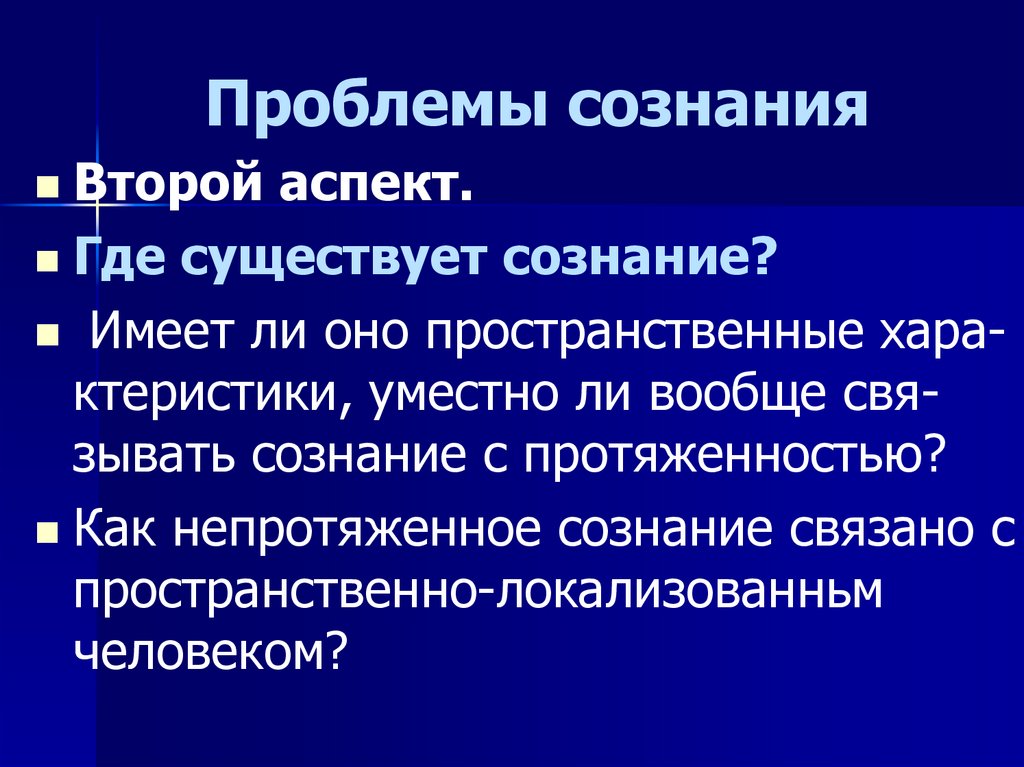 .. Читать дальше
.. Читать дальше
Комментировать ответ…Комментировать…
владимир ф. Осипов.
58
Наука. Философия. Методология. Пенсионер · 30 дек 2020
Умение отличать мышление от сознания являет феномен самосознания, сутью которого оказывается процессы понимания, осмысления и осознания действительности или отделение субъекта от окружающего его пространства. Противоположность сознания и самосзнания («Я») формирует меру относительного знания. В противоположностях познаётся всё, в том числе понятия «добра и зла» , «зло… Читать далее
Комментировать ответ…Комментировать…
Julius
1
22 авг 2020
Сознание — это опыт накопленный в этой жизни. Душа покидая тело (временное присталище) использует сознание для своего развития «Я » в дальнеших путешествиях, переводя ее в подсознание (опыт всего пройденного пути) и т.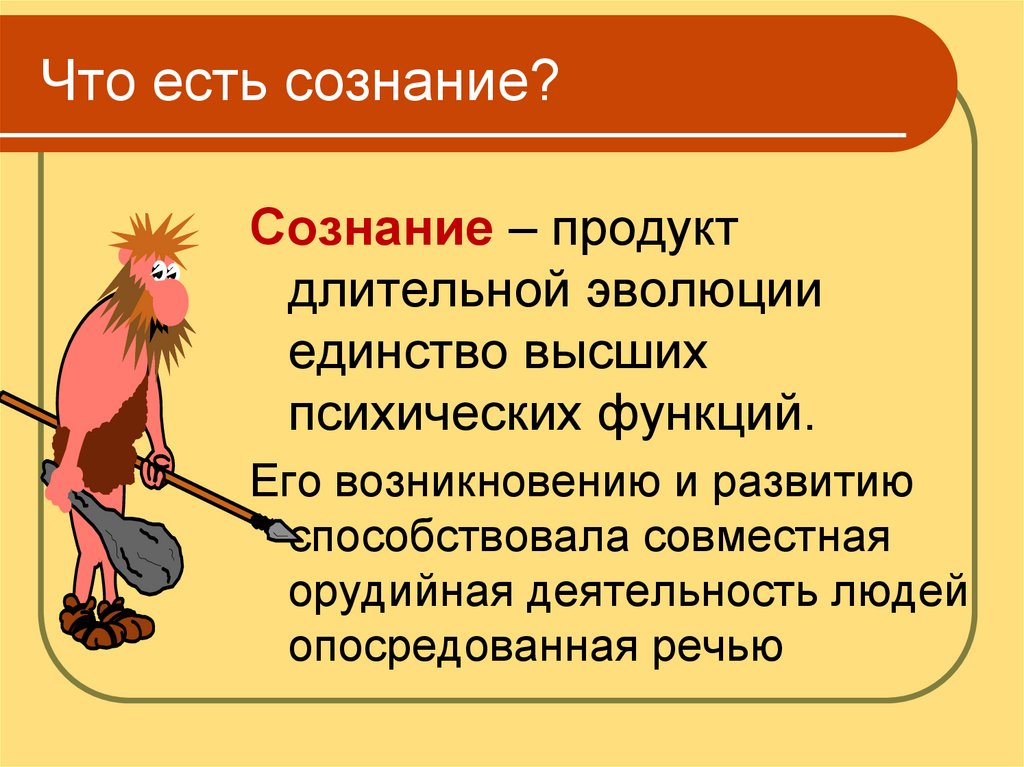 д. Душа бессмертна, а сознание и безсознание умирает одновременно с мозгом-компютером. Это простейший ответ на поставленные вопросы.
д. Душа бессмертна, а сознание и безсознание умирает одновременно с мозгом-компютером. Это простейший ответ на поставленные вопросы.
Комментировать ответ…Комментировать…
Александр Гордиенко
10
как все очень индивидуален. и в меру озабочен. · 4 февр
копия ответа от 10 января текущего года вопрос звучит так как звучал много столетий назад, но давайте сегодня будем определяться. «Сознание» как мед. термин (очнулся бинт) нормально оставим им. Во всем остальном будет не разбериха (от деятельности мозга до «духа» и т. д.). Сочетание «материализованное сознание» ставит ВСЕ на свои места, если в данном сознании будет подра… Читать далее
Комментировать ответ…Комментировать…
Распаковка набора инструментов человеческого сознания
Какими бы разными они ни казались — ученый и созерцательный нейробиолог против игрушечного орангутанга со склонностью к непристойным шуткам — почти любой взрослый, который сталкивался с ними, знает, что голос профессора Принстонского университета Майкла Грациано позади его обезьяньей марионетки Кевина. Тем не менее, большинству слушателей Кевин, который действует как комическое облегчение, когда Грациано публично представляет свою работу, тем не менее обладает ярко выраженной личностью и сознанием — он, кажется, осознает свое окружение и комментирует его по-своему.
Тем не менее, большинству слушателей Кевин, который действует как комическое облегчение, когда Грациано публично представляет свою работу, тем не менее обладает ярко выраженной личностью и сознанием — он, кажется, осознает свое окружение и комментирует его по-своему.
Хотя Кевин не является «реальным» в том смысле, что он является одушевленным биологическим существом, Грациано, профессор психологии и Принстонского института неврологии, предполагает, что люди приписывают сознание марионетке так же, как мы приписываем сознание друг другу и себе. Грациано разработал новую теорию сознания, которую он назвал «теорией схемы внимания», которая предполагает, что специализированные системы в человеческом мозгу обрабатывают информацию о вещах, о которых человек знает, и проецируют свойство сознания на нас самих и других. В этом смысле сознание марионетки столь же реально, как и сознание любого, морщась смеющегося над его шутками о жизни на руке Грациано.
Грациано выделяет две области мозга, которые, скорее всего, создают модель внимания, ведущую к осознанию (см.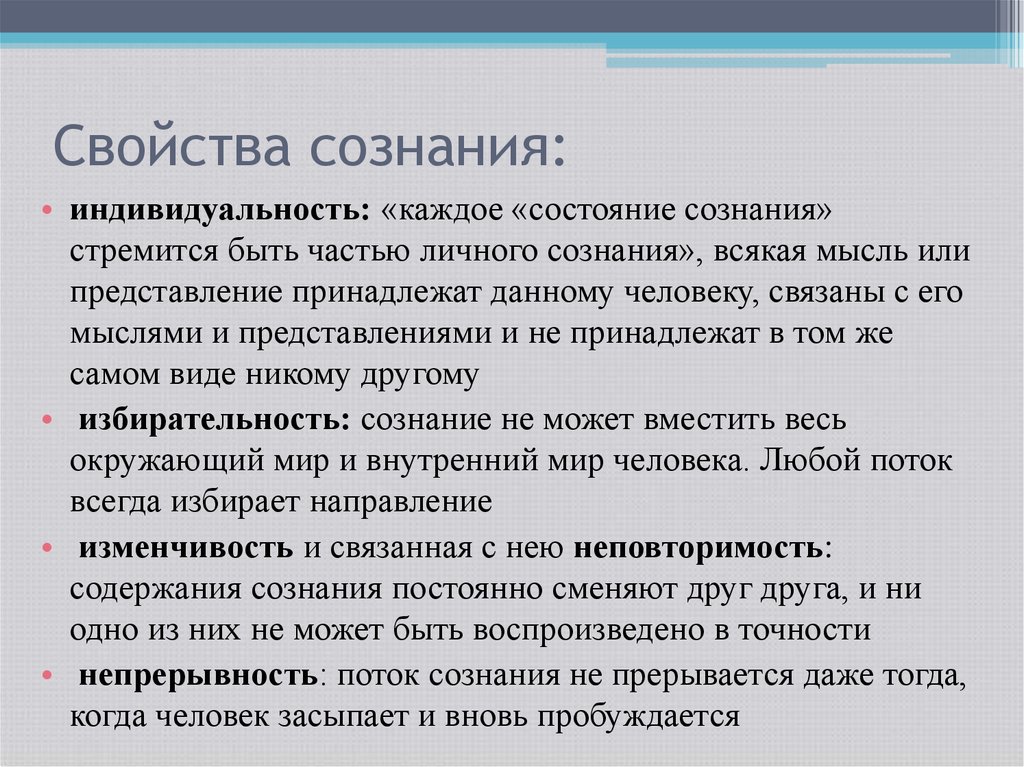 выше). Верхняя височная борозда связана со способностью следить за взглядом людей и определять, куда направлено чужое внимание. Височно-теменное соединение связано с обработкой внутренней и внешней информации и способностью различать себя и других. Было показано, что эти области активны, когда люди пытаются понять мысли других людей, а также когда люди перенаправляют свое внимание. Не менее важно и то, что повреждение этих областей, как было показано, приводит к плохой способности интерпретировать действия и эмоции других людей, а также к состоянию, известному как пренебрежение, при котором человек полностью перестает осознавать что-либо на стороне тела, противоположной стороне тела. поражение головного мозга. Это изображение мозга Грациано. (Изображение предоставлено Майклом Грациано, кафедра психологии)
выше). Верхняя височная борозда связана со способностью следить за взглядом людей и определять, куда направлено чужое внимание. Височно-теменное соединение связано с обработкой внутренней и внешней информации и способностью различать себя и других. Было показано, что эти области активны, когда люди пытаются понять мысли других людей, а также когда люди перенаправляют свое внимание. Не менее важно и то, что повреждение этих областей, как было показано, приводит к плохой способности интерпретировать действия и эмоции других людей, а также к состоянию, известному как пренебрежение, при котором человек полностью перестает осознавать что-либо на стороне тела, противоположной стороне тела. поражение головного мозга. Это изображение мозга Грациано. (Изображение предоставлено Майклом Грациано, кафедра психологии)
Большинство людей считают сознание полным, нефизическим психическим комплексом, составляющим личность, — личностью, воспоминаниями, переживаниями и эмоциями. Они также считают, что осознанность более сфокусирована — вы осознаете определенные элементы в своем сознании. Большинство людей, как правило, не беспокоит представление о том, что происходит какое-то «волшебство»: когда человек смотрит на красное яблоко, его мозг не просто регистрирует информацию, он ощущает цвет.
Большинство людей, как правило, не беспокоит представление о том, что происходит какое-то «волшебство»: когда человек смотрит на красное яблоко, его мозг не просто регистрирует информацию, он ощущает цвет.
Ученые, изучающие сознание, считают, что если мы сможем объяснить, как мозг осознает что-то, мы сможем объяснить более широкий феномен сознания. Согласно большинству научных теорий, осознание возникает в результате физического функционирования мозга, почти как тепло, поднимающееся из цепей. Поэтому большинство исследователей ищут физические механизмы в мозгу, которые могут генерировать нефизическое осознание.
Теория Грациано, изложенная в его недавней книге «Сознание и социальный мозг» (Oxford University Press, 2013), использует совершенно иной подход к объяснению сознания. «В этой теории мозг — это устройство для обработки информации. Он не производит нефизические сущности — он вычисляет информацию», — сказал Грациано.
«Мы знаем, что он получает доступ к внутренним данным и делает вывод, что у него есть «магическое» внутреннее чувство.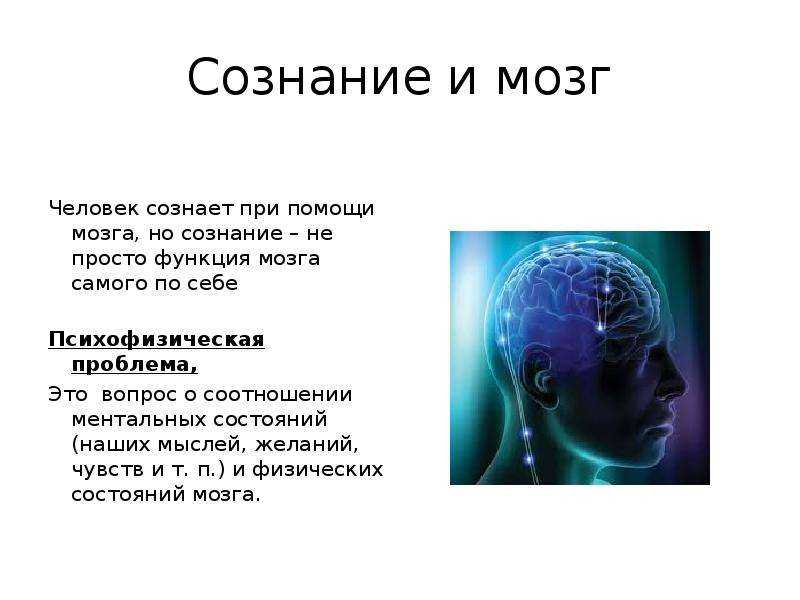 Какие научные вопросы мы собираемся задать об этом процессе», — сказал Грациано. «Большинство исследователей задаются вопросом, как создается магия, но я думаю, что это отвлекающий маневр. Вместо этого я хочу узнать о преимуществах того, что мозг вычисляет информационную модель самого себя, содержащую атрибуты магии. Помогает ли это контролировать поведение? Он эволюционировал? Я хочу знать системы мозга, которые его вычисляют, и что происходит, когда эти системы повреждены».
Какие научные вопросы мы собираемся задать об этом процессе», — сказал Грациано. «Большинство исследователей задаются вопросом, как создается магия, но я думаю, что это отвлекающий маневр. Вместо этого я хочу узнать о преимуществах того, что мозг вычисляет информационную модель самого себя, содержащую атрибуты магии. Помогает ли это контролировать поведение? Он эволюционировал? Я хочу знать системы мозга, которые его вычисляют, и что происходит, когда эти системы повреждены».
Теория основана на двух основных действиях, которые выполняет любой мозг. Во-первых, это умение обращать внимание, что для нейробиолога представляет собой трюк с обработкой данных. В мозг поступает так много сигналов извне и внутри тела, что лишь малая часть из них может быть обработана в любой момент времени. Внимание — это сложный процесс, который позволяет нам сосредоточиться на нескольких сигналах, глубоко их обработать и затем отреагировать на них. Во-вторых, все мозги организуют эти обработанные сигналы для построения информационных моделей вещей в мире. Мозг понимает мир через модели объектов, людей и даже самого себя.
Мозг понимает мир через модели объектов, людей и даже самого себя.
В теории схемы внимания Грациано осознание представляет собой упрощенную мозговую модель сложного процесса внимания. Когда человек осознает, что перед ним что-то вроде яблока, это происходит потому, что мозг соединил две модели: информацию, описывающую яблоко, и самоописательную информацию о том, как мозг фокусирует свои ресурсы. Соедините эти два специализированных типа информации вместе, и мозг будет готов к самоанализу, заключению и сообщению: «Я знаю о яблоке».
Теория схемы внимания решает две проблемы понимания сознания, сказал Аарон Шургер, старший научный сотрудник Института мозга и разума в Федеральной политехнической школе Лозанны в Швейцарии, получивший докторскую степень в Принстоне в 2009 году. Проблема связана с корреляцией активности мозга с наличием и отсутствием сознания, сказал он. «Сложной» проблемой было определить, как вообще возникает сознание. По сути, все существующие теории сознания обращались только к простой проблеме. Грациано показывает, что решение сложной проблемы может заключаться в том, что мозг описывает часть информации, которую он активно обрабатывает, как сознательную, потому что это полезное описание его собственного процесса внимания, сказал Шургер.
Грациано показывает, что решение сложной проблемы может заключаться в том, что мозг описывает часть информации, которую он активно обрабатывает, как сознательную, потому что это полезное описание его собственного процесса внимания, сказал Шургер.
«Теория Майкла очень элегантно и убедительно объясняет связь между вниманием и сознанием, — сказал Шургер.
«Его теория — первая из известных мне теорий, которая прямо решает как простые, так и сложные задачи», — сказал он. «Это зияющая дыра во всех других современных теориях, и она ловко затыкается теорией Майкла. Даже если вы думаете, что его теория неверна, его теория напоминает нам, что любая теория, которая избегает трудной проблемы, почти наверняка не попадает в цель, потому что правдоподобное решение — его теория — существует, не апеллируя к магии или таинственным, пока еще необъяснимым явлениям».
Для большинства людей осознание более специфично, чем сознание. Нам известна конкретная информация. Диаграмма выше показывает, что вся информация, которую мы осознаем, плюс процесс ее осознания составляют сознание.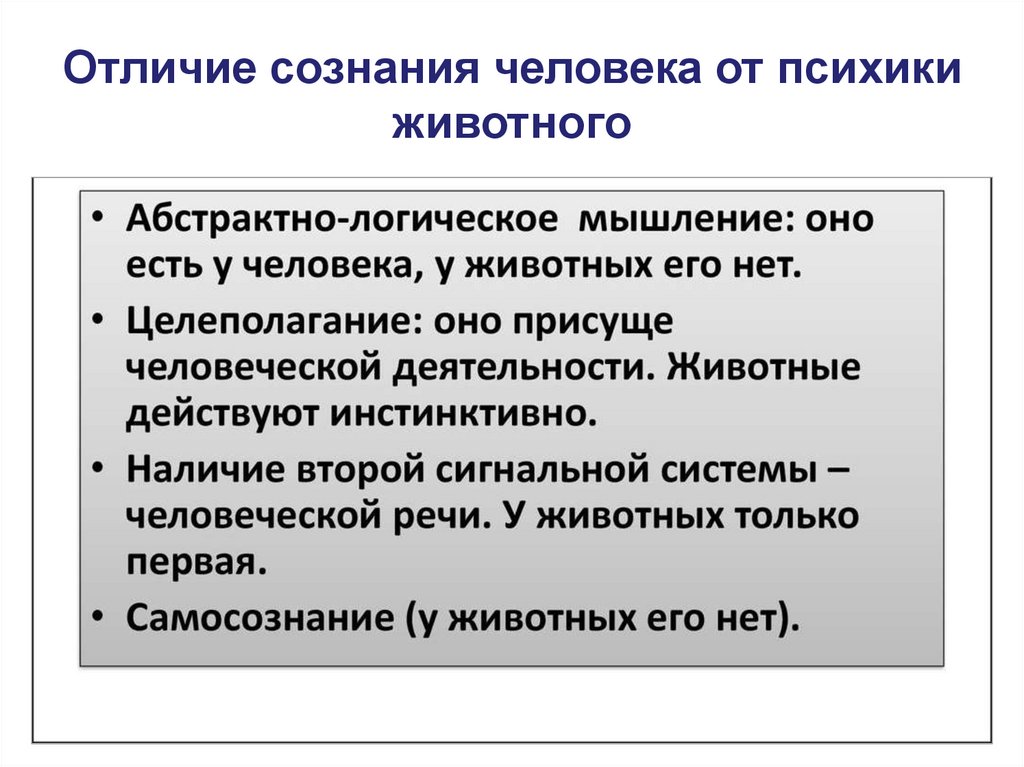 (Изображение предоставлено Майклом Грациано, факультет психологии)
(Изображение предоставлено Майклом Грациано, факультет психологии)
Мозг против магии
Грациано определил две области мозга, которые, скорее всего, создают эту модель внимания. Первая — это верхняя височная борозда, которая находится в нижней части мозга и части височной доли. Эта область связана со способностью следить за взглядом людей и определять, куда направлено чужое внимание. С верхней височной бороздой взаимодействует височно-теменное соединение, которое находится в верхней задней части мозга, где встречаются теменная и височная доли. Эта область связана с обработкой внутренней и внешней информации и способностью отличать себя от других.
Было показано, что вместе эти области активны, когда люди пытаются понять мысли других людей, а также когда люди перенаправляют их внимание. Грациано пишет, что столь же важно, как и то, как функционируют эти области, так это влияние на человека, когда эти области работают неправильно. Было показано, что повреждение этих областей приводит к плохой способности интерпретировать действия и эмоции других людей, а также к состоянию, известному как пренебрежение, при котором человек полностью перестает осознавать любого человека или объект на стороне тела, противоположной мозгу. наносить ущерб. Примером может служить человек, который может описать правую сторону улицы, но для которого левая сторона может и не существовать.
наносить ущерб. Примером может служить человек, который может описать правую сторону улицы, но для которого левая сторона может и не существовать.
Грациано и его группа планируют исследовать эти области с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), например, путем захвата изображений мозга человека, когда он приписывает осознание себе, а не другим, чтобы сосредоточиться на различных происходящих действиях. . Несмотря на то, что предстоит проделать работу, Грациано считает, что его теория имеет то преимущество, что, по крайней мере, идентифицирует возможный корень сознания и физический процесс, посредством которого оно возникает.
В общем, теории сознания, от древних греков до современной нейронауки, подошли к моменту, когда сознание просто происходит, будь то из-за волшебной жидкости, предложенной французским философом 17-го века Рене Декартом, или из-за гармоничного воспламенения миллиардов маленьких клеток мозга, предложенных современной неврологией. В этих теориях мозг внезапно осознает и понимает свое отношение ко всему, что его окружает, что-то вроде зловещего компьютера в научно-фантастическом фильме. Грациано сравнивает эти объяснения с признанием фокусника, а не с объяснением трюка.
В этих теориях мозг внезапно осознает и понимает свое отношение ко всему, что его окружает, что-то вроде зловещего компьютера в научно-фантастическом фильме. Грациано сравнивает эти объяснения с признанием фокусника, а не с объяснением трюка.
«Вопрос всегда заключался в том, как мозг производит внутреннюю «магию». Мы спрашиваем: «Как мозг приписывает себе магию?», и это принципиально иная постановка вопроса», — сказал он.
«Во всех прошлых теориях сознания есть пробел. Даже самые современные теории в какой-то момент просто указывают на цепь и говорят: «И тогда появляется осознание». Но понимать, откуда берется магия, бессмысленно», — продолжил Грациано. «Феномен, о котором ученые могут сказать с уверенностью, заключается в том, что мозг приписывает «магию» самому себе. Мы можем понять, как это происходит, и какие вычисления за этим стоят. И это то, что пытается сделать эта теория».
Грациано дал сознанию более прочную основу в реальном, осязаемом мире, даже если оно остается созданием мозга, сказал Шургер. Теория схемы внимания предлагает физический механизм для объяснения сознания.
Теория схемы внимания предлагает физический механизм для объяснения сознания.
«Во всяком случае, его теория призвана демистифицировать сознание, точно так же, как наше понимание генетики и самоорганизующихся систем начало демистифицировать «жизнь», которая, как когда-то считалось, зависит от невидимой силы», — сказал Шургер.
«Единственное, что наука может объяснить о сознании, это не «Почему внутри нас есть что-то еще, помимо ввода, обработки и вывода», а скорее: «Почему мы настаиваем на том, что внутри нас есть нечто большее?» нас», — сказал он. «Ответ, данный теорией Майкла, заключается в том, что именно так мозг описывает процесс внимания, происходящий внутри самого мозга. Даже если описываемое явление реально, описание не обязательно должно быть реальным».
Грациано и исследователи из его группы, такие как аспирант Тейлор Уэбб (справа), планируют исследовать области мозга, которые, по мнению Грациано, связаны с сознанием, с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Их исследования будут включать в себя захват изображений мозга человека, поскольку они приписывают осознание себе, а не другим, чтобы сосредоточиться на различной деятельности, которая имеет место.
Их исследования будут включать в себя захват изображений мозга человека, поскольку они приписывают осознание себе, а не другим, чтобы сосредоточиться на различной деятельности, которая имеет место.
Происхождение идеи
После 20 лет влиятельных исследований сенсорной обработки, управления движением и других связей в кооперативе мозг-тело Грациано нужно было сосредоточиться на чем-то новом. Грациано получил степень бакалавра в 1989 и получил докторскую степень в 1996 году в Принстоне, после чего работал исследователем в университете, прежде чем поступить на факультет в 2001 году. «Я дошел до того, что почувствовал, что больше не вношу фундаментальные новые исследования», — сказал он о своем переходе. «Я просто защищал свою территорию».
Сознание — одна из трех основных областей, которые изучал Грациано. Первая связана с тем, как мозг контролирует пространство вокруг тела посредством зрения, слуха и осязания. В 1990-х и начале 2000-х Грациано опубликовал серию статей в журналах Science и Nature, предполагая, что мозг отслеживает пространственный пузырь вокруг тела, чтобы управлять движением, и выявил набор связанных областей мозга, которые, казалось, нести ответственность за эту способность. Журнал Discover назвал это исследование одним из главных открытий 1997.
Журнал Discover назвал это исследование одним из главных открытий 1997.
Грациано также исследовал, как мозг контролирует движение через область мозга, известную как моторная кора, которая, как считали ученые, содержит простую «карту» отдельных мышц тела. Карта оказалась намного сложнее, чем ожидалось. В начале 2000-х Грациано показал, что если стимулировать определенные участки в моторной коре, то в результате получаются очень сложные движения. Например, когда один участок в моторной коре стимулируется, рука смыкается в положение, похожее на захват, и движется ко рту, когда рот открывается, и все это скоординировано. Эти открытия перевернули существующее представление о простой карте отдельных мышц моторной коры.
Последняя книга о сознании основана на раннем наброске своей теории, опубликованном Грациано в 2011 году в журнале Cognitive Neuroscience совместно с Сабиной Кастнер, профессором психологии из Принстонского института неврологии. Эта статья была результатом его книги 2010 года «Мозг разума души Бога» (Leapfrog Press, 2010), которая представляла собой обсуждение существующих работ о сознании, написанных для ненаучной аудитории. Именно тогда Грациано непреднамеренно представил себя своей новой и третьей важной области исследований.
Именно тогда Грациано непреднамеренно представил себя своей новой и третьей важной области исследований.
«Эта книга о том, как мы приписываем осознание другим и как мы можем приписывать осознание себе. В ней предполагается, что человеческая духовность является результатом приписывания осознания объектам и пустым пространствам», — сказал Грациано.
«Когда я писал книгу, я не осознавал, что эта теория будет считаться новой теорией человеческого сознания. Мне это казалось здравым смыслом, но многих это удивило», — сказал он. «Именно так я начал более подробно исследовать, как мозг может приписывать себе это свойство осознанности и в чем может быть польза от этого приписывания».
Исследование сознания Грациано соответствует его творческому подходу к исследованиям, а также помогает дополнить опыт отдела, сказала Дебора Прентис, профессор психологии и связей с общественностью Александра Стюарта 1886 года и заведующая кафедрой психологии. Сознание — постоянная тема в психологии, над которой размышлял даже философ и психолог XIX века Уильям Джеймс, известный как «отец американской психологии», — сказал Прентис. Тем не менее, по ее словам, никто в Принстоне не занимался этим со времен Энн Трейсман, почетного профессора психологии Университета имени Джеймса С. Макдоннелла, которая вышла на пенсию в 2010 году9.0003
Тем не менее, по ее словам, никто в Принстоне не занимался этим со времен Энн Трейсман, почетного профессора психологии Университета имени Джеймса С. Макдоннелла, которая вышла на пенсию в 2010 году9.0003
«Майкл — фантастический ученый и очень творческий исследователь. Он наиболее известен своей работой над моторной корой, которая основательно и убедительно бросила вызов господствующим ортодоксальным представлениям об организации этой области мозга», — сказал Прентис.
«Изучение сознания — новое для него смелое направление, — сказала она. «Работы Майкла всегда интересны и всегда заставляют задуматься. Мне не терпится увидеть, куда они пойдут».
Со временем Грациано все лучше объясняет свою теорию, а его коллеги лучше ее понимают. Но он допускает, что возникшие у него сомнения, большинство из которых нельзя развеять — люди верят в особую человеческую магию и хотят знать, откуда она берется.
«Люди говорят: «Отлично, вы объяснили, почему мозг утверждает, что в нем есть магия, но не объяснили настоящую магию». Практически невозможно заставить людей смотреть на происходящее с противоположной точки зрения», — сказал он. «Девяносто процентов отпора происходит из-за этой веры в магию. Это действительно почти идеологическое различие».
Практически невозможно заставить людей смотреть на происходящее с противоположной точки зрения», — сказал он. «Девяносто процентов отпора происходит из-за этой веры в магию. Это действительно почти идеологическое различие».
Коллеги, такие как Шургер, которые поддерживают его идею, похвалили Грациано за предоставление объяснения сознания, которое учитывает и коррелирует с доступными данными о том, как физически работает мозг, сказал он.
«Для меня это действительно важно. Эта теория объясняет область, которая была настолько туманной, что никто не мог найти объяснение», — сказал Грациано.
«Есть два вопроса, которые нужно задать по поводу этой теории: во-первых, дает ли она действительное объяснение или просто обращается к магии, как и многие другие теории? И, во-вторых, верна ли она? Ответ на первый вопрос — да. ,» он сказал. «Что касается второго, то это в воздухе. Я очень воодушевлен этим, но, я полагаю, никто не знает наверняка».
Расшифровка нейронауки о сознании
В 1990-х годах нейробиолог Мелвин Гудейл начал изучать людей с состоянием, называемым зрительной агнозией. Такие люди не могут сознательно видеть форму или ориентацию объектов, но действуют так, как будто могут. «Если вы поднимете перед ними карандаш и спросите, горизонтально он расположен или вертикальен, они не смогут вам ответить», — говорит Гудейл, директор-основатель Института мозга и разума Западного университета в Лондоне, Канада. «Но примечательно то, что они могут протянуть руку и взять этот карандаш, правильно ориентируя свою руку, когда они тянутся, чтобы соприкоснуться с ним».
Такие люди не могут сознательно видеть форму или ориентацию объектов, но действуют так, как будто могут. «Если вы поднимете перед ними карандаш и спросите, горизонтально он расположен или вертикальен, они не смогут вам ответить», — говорит Гудейл, директор-основатель Института мозга и разума Западного университета в Лондоне, Канада. «Но примечательно то, что они могут протянуть руку и взять этот карандаш, правильно ориентируя свою руку, когда они тянутся, чтобы соприкоснуться с ним».
Часть перспективы природы: мозг
Первоначальный интерес Гудейла был связан с тем, как мозг обрабатывает зрение. Но по мере того, как его работа по документированию двух зрительных систем, управляющих сознательным и бессознательным зрением, продвигалась вперед, она привлекла внимание философов, которые вовлекли его в разговоры о сознании — слияние полей, которое изменило их обоих.
Недавно разработанные методы измерения мозговой активности позволяют ученым уточнить свои теории о том, что такое сознание, как оно формируется в мозгу и где проходит граница между сознательным и бессознательным. И по мере того, как наше понимание сознания улучшается, некоторые исследователи начинают разрабатывать стратегии манипулирования им, с возможностью лечения травм головного мозга, фобий и психических расстройств, таких как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и шизофрения.
И по мере того, как наше понимание сознания улучшается, некоторые исследователи начинают разрабатывать стратегии манипулирования им, с возможностью лечения травм головного мозга, фобий и психических расстройств, таких как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и шизофрения.
Но даже по мере того, как исследования продвигаются вперед, а идеи из науки и философии продолжают объединяться, основные вопросы остаются без ответа. «До сих пор остается загадкой, как возникает сознание», — говорит Анил Сет, когнитивный и вычислительный нейробиолог и содиректор Центра науки о сознании им. Саклера в Университете Сассекса в Брайтоне, Великобритания.
Детективная история
Сознание часто описывается как субъективный опыт разума. В то время как базовый робот может бессознательно определять такие условия, как цвет, температура или звук, сознание описывает качественное чувство, связанное с этим восприятием, вместе с более глубокими процессами рефлексии, коммуникации и мышления, говорит Маттиас Мишель, философ науки и исследователь. Аспирант Сорбоннского университета в Париже.
Аспирант Сорбоннского университета в Париже.
Ко второй половине девятнадцатого века ученые разработали программу изучения сознания, которая напоминает нынешние подходы, говорит Мишель. Но на протяжении большей части двадцатого века исследования приостанавливались, поскольку психологи отказывались от самоанализа, чтобы вместо этого сосредоточиться на наблюдаемом поведении и стимулах, которые его вызвали. Даже в 1970-х и 1980-х годах, когда когнитивная наука утвердилась, сознание оставалось спорной темой среди ученых, которые открыто задавались вопросом, является ли оно действительной областью научных исследований. В начале своей карьеры молекулярный биолог и лауреат Нобелевской премии Фрэнсис Крик хотел изучать сознание, но вместо этого решил работать над более осязаемыми тайнами ДНК.
В конце концов, выдающиеся ученые (включая Крика) все-таки решили заняться сознанием, что положило начало сдвигу в мышлении, резко возросшему в 1990-х годах благодаря растущей доступности технологий сканирования мозга, таких как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) и электроэнцефалография. (ЭЭГ). В этот момент ученые, наконец, приступили к серьезному поиску механизмов в мозгу, связанных с сознательной обработкой информации.
(ЭЭГ). В этот момент ученые, наконец, приступили к серьезному поиску механизмов в мозгу, связанных с сознательной обработкой информации.
Последовала череда прорывов, включая случай с 23-летней женщиной, получившей тяжелую травму головного мозга в результате автомобильной аварии в июле 2005 г., в результате чего она оказалась в невосприимчивом состоянии, также известном как бодрствующее бессознательное состояние. Она могла открывать глаза и демонстрировала циклы сна и бодрствования, но не реагировала на команды и не демонстрировала признаков произвольного движения. Она все еще не отвечала пять месяцев спустя. В первом в своем роде исследовании Адриан Оуэн, нейробиолог из Кембриджского университета, Великобритания, а теперь из Западного университета, и его коллеги наблюдали за женщиной, использующей фМРТ, давая ей ряд словесных команд 1 . Когда команда попросила ее представить игру в теннис, они заметили активность в части ее мозга, называемой дополнительной двигательной зоной. Когда они попросили ее представить, как она идет по дому, вместо этого активизировались три области мозга, связанные с движением и памятью. Исследователи наблюдали те же закономерности у здоровых добровольцев, которым давали идентичные инструкции.
Когда они попросили ее представить, как она идет по дому, вместо этого активизировались три области мозга, связанные с движением и памятью. Исследователи наблюдали те же закономерности у здоровых добровольцев, которым давали идентичные инструкции.
Мозговая активность у людей в явно невосприимчивом состоянии может быть такой же, как у здоровых людей. Предоставлено: Адриан М. Оуэн
Открытие того, что некоторые люди, находящиеся в коме, проявляют признаки сознания, имело большое значение для неврологии, говорит Сет. Работа предполагала, что некоторые люди могли понимать речь и, возможно, общаться, даже когда казалось, что они не реагируют на врачей и членов семьи.
За годы, прошедшие после публикации исследования Оуэна, исследования людей с черепно-мозговыми травмами дали больше доказательств того, что сознание можно обнаружить у 10–20% людей, которые не реагируют. В 2010 году в исследовании использовалась фМРТ для мониторинга мозга 54 человек в Бельгии и Великобритании с тяжелыми черепно-мозговыми травмами 9. 0107 2 . Пятеро продемонстрировали признаки реакции мозга, когда им было предложено представить игру в теннис или прогулку по дому или городу — протокол, аналогичный тому, который был установлен командой Оуэна пятью годами ранее. Двое из этих пяти человек не продемонстрировали никакой осведомленности при обычных оценках у постели больного.
0107 2 . Пятеро продемонстрировали признаки реакции мозга, когда им было предложено представить игру в теннис или прогулку по дому или городу — протокол, аналогичный тому, который был установлен командой Оуэна пятью годами ранее. Двое из этих пяти человек не продемонстрировали никакой осведомленности при обычных оценках у постели больного.
Ученые также начали тестировать способы обнаружения сознания без необходимости давать людям словесные инструкции. В серии исследований, начатых в 2013 г. 3 , нейробиолог Марчелло Массимини из Миланского университета и его коллеги использовали транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС) для создания электрических «эхо» в мозгу, которые можно записать с помощью ЭЭГ. Этот метод похож на постукивание по мозгу, точно так же, как человек может постучать по стене, чтобы измерить ее толщину, говорит Мартин Монти, нейробиолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Пока человек находится под общей анестезией или во сне без сновидений, создаваемые им эхо-сигналы просты. Но в сознательном мозгу эхо-сигналы сложны и широко распространяются по поверхности коры головного мозга (внешний слой мозга). Работа может в конечном итоге привести к созданию инструмента, способного обнаруживать сознание даже у людей, которые не могут видеть, слышать или реагировать на словесные команды.
Но в сознательном мозгу эхо-сигналы сложны и широко распространяются по поверхности коры головного мозга (внешний слой мозга). Работа может в конечном итоге привести к созданию инструмента, способного обнаруживать сознание даже у людей, которые не могут видеть, слышать или реагировать на словесные команды.
Местоположение, местоположение, местоположение
По мере того, как ученые становились все более искусными в обнаружении сознания, они начали определять, какие области и цепи мозга являются наиболее важными. Но до сих пор ведется много споров о том, что представляет собой сознание с точки зрения нейронов, с особыми разногласиями по поводу того, какие мозговые процессы и области имеют наибольшее значение.
По крайней мере, с девятнадцатого века ученые знали, что кора головного мозга важна для сознания. Новые данные выявили заднюю корковую «горячую зону», которая отвечает за сенсорные переживания. Например, в исследовании сна 2017 года исследователи будили людей всю ночь, наблюдая за ними с помощью ЭЭГ 9. 0107 4 . Примерно в 30% случаев участники, которых встряхнуло ото сна, сообщали, что ничего не чувствовали непосредственно перед тем, как проснуться. Исследование показало, что у людей, не имевших сознательного опыта во время сна, перед пробуждением наблюдалось много низкочастотной активности в задней корковой области мозга. Однако у людей, сообщивших, что они видели сон, была меньше низкочастотная активность и больше высокочастотная активность. В результате исследователи предполагают, что, наблюдая за задней корковой горячей зоной человека во время сна, можно предсказать, спят ли они, и даже конкретное содержание их снов, включая лица, речь и движения.
0107 4 . Примерно в 30% случаев участники, которых встряхнуло ото сна, сообщали, что ничего не чувствовали непосредственно перед тем, как проснуться. Исследование показало, что у людей, не имевших сознательного опыта во время сна, перед пробуждением наблюдалось много низкочастотной активности в задней корковой области мозга. Однако у людей, сообщивших, что они видели сон, была меньше низкочастотная активность и больше высокочастотная активность. В результате исследователи предполагают, что, наблюдая за задней корковой горячей зоной человека во время сна, можно предсказать, спят ли они, и даже конкретное содержание их снов, включая лица, речь и движения.
Однако становится все более очевидным, что сознание не ограничивается только одной областью мозга. Задействуются различные клетки и пути, в зависимости от того, что воспринимается, или от типа задействованного восприятия. Изучение координации нейронных сигналов может помочь исследователям найти надежные признаки сознания. В исследовании 2019 года, в ходе которого были собраны данные фМРТ 159 человек, исследователи обнаружили, что по сравнению с людьми в состоянии минимального сознания и людьми, находящимися под наркозом, мозг здоровых людей имел более сложные паттерны скоординированных сигналов, которые также постоянно менялись 9.0107 5 .
В исследовании 2019 года, в ходе которого были собраны данные фМРТ 159 человек, исследователи обнаружили, что по сравнению с людьми в состоянии минимального сознания и людьми, находящимися под наркозом, мозг здоровых людей имел более сложные паттерны скоординированных сигналов, которые также постоянно менялись 9.0107 5 .
Осталось много неизвестного. Ученые расходятся во мнениях относительно того, как следует интерпретировать результаты исследования, и определение того, находится ли человек «в сознании» или «вне сознания», представляет собой задачу, которая отличается от наблюдения за тем, что происходит в мозге, когда он осознает различные типы информации. Тем не менее исследования работы мозга на различных уровнях сознания начинают предлагать альтернативные взгляды на мозг на механистическом уровне. Есть надежда, говорит Сет, на то, что исследователи сознания смогут «перейти к психиатрии двадцать первого века, где мы сможем более конкретно вмешиваться в механизмы устранения конкретных симптомов».
Ремонт и лечение
Попытки вмешательства предпринимаются, и люди с черепно-мозговыми травмами могут быть в числе первых, кто от этого выиграет. Например, на основе исследований, указывающих на то, что таламус играет важную роль в сознании, Монти и его коллеги экспериментировали с неинвазивной техникой, использующей ультразвук для стимуляции этой области мозга у людей с повреждением головного мозга.
Они провели первое испытание процедуры на 25-летнем мужчине, находившемся в коме после автомобильной аварии 19днями ранее. В течение 3 дней мужчина восстановил способность понимать язык, реагировать на команды и отвечать на вопросы «да-нет» жестами головы. Пять дней спустя он пытался ходить.
История болезни 6 , опубликованная в 2016 году, дает понять, что его выздоровление могло быть случайностью — люди часто выходят из комы спонтанно. Но неопубликованные последующие работы показывают, что ультразвуковой подход, вероятно, имеет значение. С тех пор команда Монти провела процедуру стимуляции таламуса у человека с черепно-мозговой травмой, который несколько лет назад попал в автомобильную аварию. Пациент долгое время находился в состоянии минимального сознания, в котором люди проявляют некоторые признаки осознания своего окружения или самих себя. Через несколько дней после экспериментального лечения жена мужчины спросила его, узнает ли он конкретных людей на семейных фотографиях. Он мог достоверно ответить «да», посмотрев вверх, и «нет», посмотрев вниз. Монти вспоминает, как навестил пациента и его жену вскоре после процедуры. «Она посмотрела на меня и даже не поздоровалась. Она сказала: «Я хочу еще», — говорит Монти. Это был первый раз, когда она разговаривала с мужем после аварии.
Пациент долгое время находился в состоянии минимального сознания, в котором люди проявляют некоторые признаки осознания своего окружения или самих себя. Через несколько дней после экспериментального лечения жена мужчины спросила его, узнает ли он конкретных людей на семейных фотографиях. Он мог достоверно ответить «да», посмотрев вверх, и «нет», посмотрев вниз. Монти вспоминает, как навестил пациента и его жену вскоре после процедуры. «Она посмотрела на меня и даже не поздоровалась. Она сказала: «Я хочу еще», — говорит Монти. Это был первый раз, когда она разговаривала с мужем после аварии.
Галлюцинация, созданная алгоритмом машинного обучения, который имитирует измененное зрительное восприятие. Предоставлено: Кейсуке Судзуки/Унив. Сассекс
Монти и его коллеги обнаружили такие же обнадеживающие результаты у нескольких других людей, находящихся в постоянной коме, но неясно, сохраняются ли преимущества более чем на несколько недель, прежде чем реципиенты вернутся в исходное состояние. Работа команды продолжается, и в настоящее время исследователи пытаются выяснить, продлит ли повторение лечения положительный эффект. «Я действительно думаю, что это окажется возможным способом помочь пациентам выздороветь», — говорит Монти. «Кто-то однажды назвал это запуском мозга. Мы не торопимся, но метафора уместна».
Работа команды продолжается, и в настоящее время исследователи пытаются выяснить, продлит ли повторение лечения положительный эффект. «Я действительно думаю, что это окажется возможным способом помочь пациентам выздороветь», — говорит Монти. «Кто-то однажды назвал это запуском мозга. Мы не торопимся, но метафора уместна».
Дальнейшее проникновение в механизмы сознания может привести к более эффективному лечению тревоги, фобий и посттравматического стрессового расстройства, предполагает работа Хаквана Лау, нейробиолога из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, и его коллег. Стандартным подходом к лечению страхов является экспозиционная терапия, которая подталкивает людей постоянно сталкиваться с тем, что пугает их больше всего. Но такое лечение неприятно, и процент отсева может достигать 50% и более.
Вместо этого команда Лау пытается перепрограммировать бессознательное, используя технику, основанную на фМРТ, которая вознаграждает людей за активацию определенных областей мозга. В двойном слепом испытании исследователи попросили 17 человек увеличить точку на экране компьютера, используя любую ментальную стратегию 9.0107 7 . Чем больше они смогут сделать, тем больше денег им заплатят за завершение исследования. Участники могли думать о чем угодно. Чего они, однако, не знали, так это того, что точка будет расширяться только тогда, когда они активируют части своего мозга, которые, согласно предыдущим наблюдениям, сделанным на большей группе людей, активизировались, когда они видели изображения животных, которых они интересовали. боятся, например, пауков или змей.
В двойном слепом испытании исследователи попросили 17 человек увеличить точку на экране компьютера, используя любую ментальную стратегию 9.0107 7 . Чем больше они смогут сделать, тем больше денег им заплатят за завершение исследования. Участники могли думать о чем угодно. Чего они, однако, не знали, так это того, что точка будет расширяться только тогда, когда они активируют части своего мозга, которые, согласно предыдущим наблюдениям, сделанным на большей группе людей, активизировались, когда они видели изображения животных, которых они интересовали. боятся, например, пауков или змей.
Со временем участники стали лучше активировать правильные части своего мозга, но сознательно не думали о вызывающих страх существах. После эксперимента потливость ладоней людей — черта, отражающая их уровень стресса — в ответ на наблюдение за этими животными уменьшилась. Активация миндалевидного тела, области мозга, которая реагирует на угрозы, также была снижена. Эта техника, казалось, перепрограммировала реакцию мозга на страх вне сознательного понимания участников.
Лау и его коллеги тестируют эту процедуру на людях с фобиями и в конечном итоге надеются использовать ее для лечения посттравматического стрессового расстройства. Но техника имеет значительное ограничение. Несмотря на уменьшение физических симптомов, похоже, что это не влияет на отношение людей к паукам и змеям. «Если вы спросите пациентов, действительно ли они боятся, — говорит Лау, — они ответят «да».
В конечном счете, для борьбы со страхом может потребоваться воздействие как на бессознательные, так и на сознательные пути, которые работают в мозге по-разному, говорит Джозеф Леду, нейробиолог из Нью-Йоркского университета в Нью-Йорке. Бессознательный путь, по его словам, выходит из миндалевидного тела. Но эти запрограммированные реакции на угрозы, считает он, вовсе не следует рассматривать как страх. Вместо этого сознательное переживание страха исходит из когнитивного осознания и эмоциональной интерпретации ситуации. Возникающие в результате переживания не сосредоточены на миндалевидном теле. Леду говорит, что разница очевидна у слеповидящих людей, которые не могут сознательно воспринимать визуальные стимулы, но действуют так, как будто могут. При появлении угрозы они проявляют активность миндалевидного тела вместе с физическими реакциями. Но они не сообщают о страхе.
Леду говорит, что разница очевидна у слеповидящих людей, которые не могут сознательно воспринимать визуальные стимулы, но действуют так, как будто могут. При появлении угрозы они проявляют активность миндалевидного тела вместе с физическими реакциями. Но они не сообщают о страхе.
Это отключение может также помочь понять, почему современные лекарства от беспокойства не всегда работают так, как надеются люди, говорит Леду. Эти лекарства, разработанные в ходе исследований на животных, могут воздействовать на цепи миндалевидного тела и влиять на поведение человека, например, на его уровень робости, облегчая ему посещение общественных мероприятий. Но такие препараты не обязательно влияют на сознательное переживание страха, что говорит о том, что в будущем при лечении, возможно, потребуется отдельно воздействовать как на бессознательные, так и на сознательные процессы. «Мы можем использовать подход, основанный на мозге, который рассматривает эти разные виды симптомов как продукты разных цепей, и разрабатывать методы лечения, которые систематически воздействуют на разные цепи», — говорит он. «Уменьшение громкости не меняет песню — только ее уровень».
«Уменьшение громкости не меняет песню — только ее уровень».
Психические расстройства являются еще одной областью интересов исследователей сознания, говорит Лау, на том основании, что некоторые состояния психического здоровья, включая шизофрению, обсессивно-компульсивное расстройство и депрессию, могут быть вызваны проблемами на бессознательном уровне или даже конфликтами. между сознательными и бессознательными путями. Пока эта связь только гипотетическая, но Сет исследовал нейронную основу галлюцинаций с помощью «машины галлюцинаций» — программы виртуальной реальности, которая использует машинное обучение для имитации зрительных галлюцинаций у людей со здоровым мозгом. С помощью экспериментов он и его коллеги показали, что эти галлюцинации напоминают типы видений, которые люди испытывают при приеме психоделических препаратов, которые все чаще используются в качестве инструмента для исследования нейронных основ сознания.
Если исследователи смогут раскрыть механизмы, лежащие в основе галлюцинаций, они смогут манипулировать соответствующими областями мозга и, в свою очередь, лечить основную причину психоза, а не просто устранять симптомы. Показывая, как легко манипулировать человеческим восприятием, добавляет Сет, работа предполагает, что наше чувство реальности — это просто еще одна грань того, как мы воспринимаем мир.
Показывая, как легко манипулировать человеческим восприятием, добавляет Сет, работа предполагает, что наше чувство реальности — это просто еще одна грань того, как мы воспринимаем мир.
В поисках легитимности
Каждый год десятки тысяч людей в Соединенных Штатах приходят в сознание под общим наркозом. Они не могут двигаться или говорить, но могут слышать голоса или звуки оборудования и чувствовать боль. Этот опыт может быть травмирующим и чреват этическими и юридическими последствиями для лечащих врачей. Некоторые ученые работают над продвижением рекомендаций по общению с невосприимчивыми пациентами, а также способов поиска признаков дискомфорта у таких людей. И они призывают к разработке улучшенного обучения и законов, чтобы иметь дело с возможностью того, что альтернативные способы обнаружения сознания изменят определение информированного согласия на медицинские процедуры.
Исследователи также начинают добиваться лучшего информирования общественности о том, чего может и чего не может достичь наука о сознании. Мишель говорит, что заявления, не подкрепленные эмпирическими данными, получили широкое распространение в исследованиях сознания. В частности, одна из них, названная теорией интегрированной информации, получила много частного финансирования и внимания средств массовой информации, хотя и была отвергнута им и другими экспертами в этой области. В ходе неофициального опроса 249 исследователей в 2018 году Мишель и его коллеги обнаружили, что около 22% из тех, кто не публиковал статьи и не посещал крупные собрания по сознанию — и поэтому считались неспециалистами — доверяли теории интегрированной информации 9.0107 8 . Мишель подозревает, что в этом может быть виноват «эффект гуру», поскольку неспециалисты считают, что сложные и неясные заявления, сделанные умными людьми, которые проецируют авторитет, с большей вероятностью будут правдой, чем более простые идеи. «В каком-то смысле кажущаяся сложность теории используется в качестве показателя вероятности ее истинности», — говорит Мишель.
Мишель говорит, что заявления, не подкрепленные эмпирическими данными, получили широкое распространение в исследованиях сознания. В частности, одна из них, названная теорией интегрированной информации, получила много частного финансирования и внимания средств массовой информации, хотя и была отвергнута им и другими экспертами в этой области. В ходе неофициального опроса 249 исследователей в 2018 году Мишель и его коллеги обнаружили, что около 22% из тех, кто не публиковал статьи и не посещал крупные собрания по сознанию — и поэтому считались неспециалистами — доверяли теории интегрированной информации 9.0107 8 . Мишель подозревает, что в этом может быть виноват «эффект гуру», поскольку неспециалисты считают, что сложные и неясные заявления, сделанные умными людьми, которые проецируют авторитет, с большей вероятностью будут правдой, чем более простые идеи. «В каком-то смысле кажущаяся сложность теории используется в качестве показателя вероятности ее истинности», — говорит Мишель. «Они на самом деле не понимают этого, но приходят к выводу, что если бы они поняли это, то, вероятно, считали бы это правильной теорией сознания».
«Они на самом деле не понимают этого, но приходят к выводу, что если бы они поняли это, то, вероятно, считали бы это правильной теорией сознания».
Еще из Nature Outlooks
Чтобы укрепить легитимность науки о сознании и поощрить принятие научно обоснованных идей, он и группа из 57 его коллег из разных дисциплин, включая Сета, Лау, Гудейла и Леду, продолжили неофициальное исследование, опубликовав статью 2019 года. который рассмотрел состояние месторождения 9 . Его выводы были неоднозначными. Они написали, что исследования сознания еще не признаны Национальным институтом психического здоровья США в качестве стратегически ориентированной области. Создание рабочих мест в этой области отстает от других зарождающихся дисциплин, таких как нейроэкономика и социальная нейробиология. А государственное финансирование, особенно в Соединенных Штатах, было относительно скудным. Но некоторые области привлекают внимание. С середины 2000-х годов Национальные институты здравоохранения США предоставили несколько крупных грантов для поддержки исследований, посвященных, помимо других важных тем, неврологическим различиям между сознанием и нахождением в коме, бодрствованием и сном. Такие исследования могли бы дать представление о нейронных подписях сознания. Некоторые крупные частные благотворительные фонды и организации также поддерживают исследования больших идей в сознании, говорит Гудейл, который получает финансирование от одной из таких благотворительных организаций, Канадского института перспективных исследований в Торонто.
Такие исследования могли бы дать представление о нейронных подписях сознания. Некоторые крупные частные благотворительные фонды и организации также поддерживают исследования больших идей в сознании, говорит Гудейл, который получает финансирование от одной из таких благотворительных организаций, Канадского института перспективных исследований в Торонто.
По мере накопления финансирования и публикаций у ученых появляется все больше возможностей сделать исследования сознания разумной — если не центральной — частью их исследовательского плана, — говорит Сет. «Произошла общая ассимиляция сознания в рамках стандартной практики нейробиологии, психологии и медицины», — говорит он. «Он стал более нормальным, и это хорошо».
Откуда берется сознание? И как наш мозг его создает? Взгляд на одну из самых больших тайн жизни |
Наука 7 декабря 2021 г. / Анил Сет PhD
Stocksy
Пять лет назад, в третий раз в жизни, я перестал существовать.
У меня была небольшая операция, и мой мозг заполнялся анестетиком. Помню ощущения черноты, отстраненности и распада…
Помню ощущения черноты, отстраненности и распада…
Общая анестезия очень отличается от засыпания. Должно быть; если бы вы спали, нож хирурга быстро разбудил бы вас. Состояния глубокой анестезии имеют больше общего с катастрофическими состояниями вроде комы и вегетативного состояния, при котором сознание полностью отсутствует.
Это акт трансформации, своего рода магия: Анестезия — это искусство превращения людей в объекты.
При глубокой анестезии электрическая активность мозга почти полностью прекращается, чего никогда не происходит в обычной жизни, в бодрствующем состоянии или во сне. Одним из чудес современной медицины является то, что анестезиологи могут регулярно изменять мозг людей, чтобы они входили и возвращались из таких глубоко бессознательных состояний. Это акт трансформации, своего рода магия: анестезия — это искусство превращения людей в объекты.
Предметы, разумеется, снова превращаются в людей. Так что я вернулся, сонный и дезориентированный, но определенно там. Казалось, что времени не прошло. Просыпаясь от глубокого сна, я иногда путаюсь во времени, но всегда остается впечатление, что прошло по крайней мере какое-то количество времени, непрерывности между моим сознанием , потом , и моим сознанием , теперь .
Казалось, что времени не прошло. Просыпаясь от глубокого сна, я иногда путаюсь во времени, но всегда остается впечатление, что прошло по крайней мере какое-то количество времени, непрерывности между моим сознанием , потом , и моим сознанием , теперь .
Но под общим наркозом все по-другому. Я мог пролежать пять минут, пять часов, пять лет — даже пятьдесят. И «под» не совсем это выражает. Меня просто не было, предчувствие полного забвения смерти, и при отсутствии чего бы то ни было, странное утешение.
Меня просто не было, предчувствие полного забвения смерти, и при отсутствии чего бы то ни было, странное утешение.
Общая анестезия воздействует не только на ваш мозг или разум. Он работает с вашим сознанием. Путем изменения тонкого электрохимического баланса в нейронных схемах внутри вашей головы базовое основное состояние того, что значит «быть», временно упраздняется. В этом процессе кроется одна из величайших загадок науки, а также философии.
Каким-то образом в каждом из наших мозгов объединенная активность миллиардов нейронов, каждый из которых представляет собой крошечную биологическую машину, порождает сознательный опыт. И не просто какой-то сознательный опыт, ваш сознательный опыт, прямо здесь, прямо сейчас.
Как это происходит? Почему мы воспринимаем жизнь от первого лица?
Представьте себе, что будущая версия меня, возможно, не так далеко, предлагает вам сделку на всю жизнь. Я могу заменить твой мозг машиной, равной ему во всех отношениях, чтобы снаружи никто не заметил разницы. У этой новой машины много преимуществ: она невосприимчива к гниению и, возможно, позволит вам жить вечно.
Но есть загвоздка . Поскольку даже «я-будущее» не уверено, как настоящий мозг порождает сознание, я не могу гарантировать, что у вас вообще будет какой-либо сознательный опыт, если вы примете это предложение.
Может быть, да, если сознание зависит только от функциональных возможностей, от мощности и сложности схемы мозга. Но, может быть, и нет, если сознание зависит от определенного биологического материала — нейронов, например.
Но, может быть, и нет, если сознание зависит от определенного биологического материала — нейронов, например.
Без сознания вряд ли имеет значение, проживешь ты еще 5 лет или еще 500.
Конечно, поскольку ваш машинный мозг во всех отношениях ведет себя одинаково, когда я спрошу нового — вас, сознательны ли вы, новый — вы ответите «да». Но что, если, несмотря на этот ответ, жизнь — или вы — больше не от первого лица?
Я подозреваю, что вы не согласитесь на сделку. Без сознания вряд ли будет иметь значение, проживете ли вы еще 5 лет или еще 500. За все это время не было бы ничего, на что было бы похоже быть вами.
Помимо философских игр, практическую важность понимания мозговой основы сознания легко оценить. Общая анестезия считается одним из величайших изобретений всех времен. Менее радостно, что тревожные расстройства сознания могут сопровождать черепно-мозговые травмы и психические заболевания у все большего числа людей, включая меня, которые сталкиваются с этими состояниями. И для каждого из нас сознательный опыт меняется на протяжении всей жизни, от цветущей и жужжащей путаницы ранней жизни через кажущуюся, хотя, вероятно, иллюзорную и, конечно, не всеобщую ясность взрослой жизни, и далее к нашему окончательному дрейфу в постепенное — и для некоторых , дезориентирующе быстрое — растворение личности по мере того, как начинается нейродегенеративный распад.
И для каждого из нас сознательный опыт меняется на протяжении всей жизни, от цветущей и жужжащей путаницы ранней жизни через кажущуюся, хотя, вероятно, иллюзорную и, конечно, не всеобщую ясность взрослой жизни, и далее к нашему окончательному дрейфу в постепенное — и для некоторых , дезориентирующе быстрое — растворение личности по мере того, как начинается нейродегенеративный распад.
Возможно ли сознание без само- -сознания? И если да, то будет ли это иметь такое большое значение?
На каждом этапе этого процесса вы существуете, но представление о том, что существует единственное уникальное сознательное я (душа?), которое сохраняется с течением времени, может быть грубо ошибочным. В самом деле, одним из наиболее важных аспектов тайны сознания является природа личности. Возможно ли сознание без само- -сознания? И если да, то будет ли это иметь такое большое значение?
Ответы на подобные трудные вопросы во многом влияют на то, как мы думаем о мире и жизни, которая в нем содержится. Когда сознание начинает развиваться? Появляется ли он при рождении или присутствует еще в утробе матери? А как насчет сознания у нечеловеческих животных — и не только у приматов и других млекопитающих, но и у потусторонних существ, таких как осьминоги, и, возможно, даже у простых организмов, таких как черви-нематоды или бактерии? Есть ли что-то похожее на кишечную палочку или морской окунь?
Когда сознание начинает развиваться? Появляется ли он при рождении или присутствует еще в утробе матери? А как насчет сознания у нечеловеческих животных — и не только у приматов и других млекопитающих, но и у потусторонних существ, таких как осьминоги, и, возможно, даже у простых организмов, таких как черви-нематоды или бактерии? Есть ли что-то похожее на кишечную палочку или морской окунь?
А машины будущего? Здесь нас должно волновать не только влияние, которое приобретают над нами новые формы искусственного интеллекта, но и то, нужно ли и когда нам занимать этическую позицию по отношению к ним. У меня эти вопросы вызывают сверхъестественное сочувствие, которое я испытал, наблюдая за тем, как Дейв Боумен разрушает личность HAL простым актом удаления его банков памяти, один за другим, в фильме 2001: Космическая одиссея . Как и в случае большего сочувствия, вызванного судьбой репликантов Ридли Скотта в оригинальных «Бегущий по лезвию », есть ключ к пониманию важности нашей природы как живых машин для того, чтобы быть сознательным.
Несмотря на свою уже запятнанную репутацию среди нейробиологов, Зигмунд Фрейд во многом был прав. Оглядываясь назад на историю науки, он определил три «удара» по восприятию собственной важности человеческого вида, каждый из которых знаменовал собой крупное научное достижение, которому в то время оказывалось сильное сопротивление.
Первым был Коперник, который своей гелиоцентрической теорией показал, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. С этим пришло осознание того, что мы не в центре вселенной; мы всего лишь пятнышко где-то там, на просторах, бледно-голубая точка, подвешенная в бездне.
Затем появился Дарвин, который открыл, что у нас есть общие предки со всеми другими живыми существами, осознание, которому, как это ни удивительно, сопротивляются в некоторых частях мира даже сегодня.
Нескромно, но третьим ударом Фрейда по человеческой исключительности стала его собственная теория бессознательного, которая бросила вызов идее о том, что наша психическая жизнь находится под нашим сознательным, рациональным контролем. Хотя он мог ошибиться в деталях, он был абсолютно прав, указав, что натуралистическое объяснение разума и сознания будет дальнейшим и, возможно, окончательным свержением человечества.
Хотя он мог ошибиться в деталях, он был абсолютно прав, указав, что натуралистическое объяснение разума и сознания будет дальнейшим и, возможно, окончательным свержением человечества.
С каждым новым шагом в нашем понимании приходит новое чувство удивления и новая способность видеть себя менее кроме — и более часть — остальная природа.
Эти изменения в том, как мы видим себя, следует только приветствовать. С каждым новым шагом в нашем понимании приходит новое чувство удивления и новая способность видеть себя менее отдельно от — и более частью — остальной природы.
Наш сознательный опыт является частью природы, как и наши тела, как и наш мир. А когда жизнь закончится, кончится и сознание. Когда я думаю об этом, я возвращаюсь к своему опыту — моим нон -опыт — анестезии. К своему забвению, возможно, утешительному, но тем не менее забвению.
Писатель Джулиан Барнс в своих размышлениях о смертности прекрасно выразил это. Когда наступает конец сознания, нечего — на самом деле ничего — бояться.
Когда наступает конец сознания, нечего — на самом деле ничего — бояться.
Взято с разрешения из новой книги Анила Сета «Быть собой: новая наука о сознании» . Опубликовано Dutton, издательством Penguin Random House LLC. Copyright © 2021 Анил Сет.
Посмотрите специальное выступление членов TED + беседу с Анилом Сетом прямо сейчас:
Исследование человеческого сознания: обзор
Дэвида Брэйнса
Сознание — один из самых важных аспектов человека. Он допускает субъективный опыт, называемый жизнью. Но откуда берется сознание? Ответ на этот вопрос известен долгую историю, от древних времен до технологического настоящего. Где мы находимся сейчас? В данной статье представлен обзор современных исследований сознания.
Сознание — один из самых загадочных и самых знакомых аспектов человеческой жизни; люди чувствуют, как ветер дует им в лицо по пути на занятия, слушают информативную лекцию и пробуют вкусную еду по возвращении домой, они знают об этом, думают они. Но как думают люди? Этот вопрос был одним из самых фундаментальных в биологии, психологии и философии с момента возникновения сознательного человеческого мышления.
Но как думают люди? Этот вопрос был одним из самых фундаментальных в биологии, психологии и философии с момента возникновения сознательного человеческого мышления.
Однако когда-то исследования сознания считались недосягаемыми для науки и даже были запрещены в качестве темы исследования, так как это предмет, подходящий только для философии и религии. Одна из основных причин этого заключалась в том, что сознание как понятие очень субъективно и очень широко: согласно Кэмпбеллу и Рису (2008), оно включает в себя самосознание и переживания. С другой стороны, исследования сознания, начавшиеся с Декарта в 17 веке, показали значительный рост научных исследований, проведенных за последние несколько десятилетий, что точно описано Вельмансом и Шнайдером (2007).
Предоставив исторический отчет о научных исследованиях сознания, возможно, удастся лучше понять текущие проблемы научных исследований сознания. Тем не менее, чтобы улучшить текущие исследования и понимание, необходимо сохранить цель в будущем, как признает Сирл (1998). Более того, согласно Ревонсуо (2009), это будущее исследований сознания возможно только в том случае, если появится единая исследовательская программа, на которой основаны все будущие исследования. Несмотря на это, критическая перспектива в таких концепциях остается существенной, поскольку часто составляются только гипотезы, которые формулируются без эмпирического доказательства.
Более того, согласно Ревонсуо (2009), это будущее исследований сознания возможно только в том случае, если появится единая исследовательская программа, на которой основаны все будущие исследования. Несмотря на это, критическая перспектива в таких концепциях остается существенной, поскольку часто составляются только гипотезы, которые формулируются без эмпирического доказательства.
Однако одна современная фундаментальная проблема, названная Чалмерсом (1999) «трудной проблемой», кажется, неразрывно связана с исследованиями сознания. Эта проблема описывает трудности преодоления объяснительного пробела при связывании мозговых механизмов и субъективного опыта, являющегося частью сознания. Поэтому технологический прогресс, достигнутый в последние годы, является благоприятным, поскольку он может преодолеть разрыв между открытиями в когнитивной психологии, неврологии и научной философии и субъективными аспектами сознания, как признают Гринфилд и Коллинз (2005) и другие.
Определение сознания
Одной из предпосылок для анализа научных исследований сознания является рабочее определение сознания, тем более что сознание считается очень двусмысленным термином, который может создать путаницу.
Согласно Ревонсуо, сознание — это «субъективная психологическая реальность, в которой все мы проживаем свою жизнь» (2009), но проводится различие между различными определениями сознания. Тем не менее наиболее важной концепцией, необходимой для научного объяснения сознания, по-видимому, является та, которая относится к присутствию качественного и субъективного опыта как неотъемлемой части сознания.
Еще одна попытка дать рабочее определение предпринята Гринфилдом и Коллинзом, которые также признают, что концепция весьма двусмысленна, что является причиной серьезных проблем в исследованиях сознания (2005). Однако, несмотря на различные различия между такими понятиями, как бодрствование и осознавание, и подчеркивание необходимости избежать ошибки смешения сознания с самосознанием, которое является лишь аспектом сознания, признается, что сознание прежде всего характеризуется субъективный и качественный опыт. Эту же концепцию также признают Велманс и Шнайдер (2007), и поэтому в этой статье будет использоваться определение сознания, характеризуемого субъективными переживаниями.
История исследования сознания
Систематические попытки понять, что составляет этот субъективный опыт, характеризуются долгой историей. Эта история уходит своими корнями в 17 век, период, когда жил Рене Декарт, первый человек, пытавшийся систематически исследовать сознание. Выводы и теории, полученные в результате его исследований, продолжают оказывать влияние на других и сегодня, как будет показано ниже. Более того, его влияние можно объяснить тем фактом, что он был первым, кто выдвинул на первый план самую трудную проблему, все еще стоящую перед исследователями сознания в настоящее время, а именно проблему объяснения того, как сознание могло появиться из мозга. Трудность этой проблемы описана в теории дуализма Декарта, в которой описывается, как должно быть проведено четкое различие между разумом и телом, поскольку и то, и другое описывается в терминах совершенно разных характеристик: основных характеристик тело приписывается физическим процессам, тогда как основные характеристики разума приписываются мышлению. Однако такое различие не считается удовлетворительным объяснением сознания в сфере науки и поэтому до сих пор остается проблемой в исследованиях сознания.
Однако такое различие не считается удовлетворительным объяснением сознания в сфере науки и поэтому до сих пор остается проблемой в исследованиях сознания.
Тем не менее, Декарт был одним из первых, кто рассмотрел корреляцию сознания и нервных процессов. Его выводы включают результаты, которые признают мозг важным аспектом сенсорных входов, моторных выходов и выходов, но благодаря им мозг функционировал только как небольшой аспект сознания. Согласно Декарту, шишковидная железа в мозгу служила связующим звеном между разумом и телом, причем первое в конечном итоге находилось под контролем, обеспечиваемым сигналами от шишковидной железы в мозгу. Можно заметить, что эта связь между разумом и шишковидной железой является первым систематическим подходом к научным исследованиям сознания; тем не менее, именно последствия теории дуализма Декарта оказали большое влияние на взгляды гуманитарных наук на сознание.
Начиная с Декарта предпринимались различные попытки, в основном философского характера, прояснить связь между сознанием и физическим телом. Эти попытки включают теории Спинозы, Лейбница и Беркли, живших в 17 или 18 веках. Теория двойного аспекта Спинозы подразумевает, что сознание и физический мир — одно и то же, будучи разными аспектами одного и того же. Вопреки этому была теория психофизического параллелизма Лейбница, которая предлагает разделение разума и тела как разных субстанций, сотрудничающих в гармонии. Другой влиятельной теорией 18-го века был имматериализм Беркли, утверждавший, что ничто не существует, если оно не является разумом или воспринимается им. Несмотря на то, что подробное их объяснение выходит за рамки данной статьи, существование этих теорий указывало на рост исследований сознания, несмотря на отсутствие эмпирической научной основы. Тем не менее именно теория, предложенная в 18 веке, составляет суть убеждений, которых сегодня придерживаются многие исследователи, пытающиеся связать сознание с нейронными коррелятами. Эта теория, названная материализмом, была впервые предложена де ла Меттри и утверждает, что материя и, следовательно, физическое тело ответственны за все психические процессы, являющиеся результатом сложных процессов в мозгу.
Эти попытки включают теории Спинозы, Лейбница и Беркли, живших в 17 или 18 веках. Теория двойного аспекта Спинозы подразумевает, что сознание и физический мир — одно и то же, будучи разными аспектами одного и того же. Вопреки этому была теория психофизического параллелизма Лейбница, которая предлагает разделение разума и тела как разных субстанций, сотрудничающих в гармонии. Другой влиятельной теорией 18-го века был имматериализм Беркли, утверждавший, что ничто не существует, если оно не является разумом или воспринимается им. Несмотря на то, что подробное их объяснение выходит за рамки данной статьи, существование этих теорий указывало на рост исследований сознания, несмотря на отсутствие эмпирической научной основы. Тем не менее именно теория, предложенная в 18 веке, составляет суть убеждений, которых сегодня придерживаются многие исследователи, пытающиеся связать сознание с нейронными коррелятами. Эта теория, названная материализмом, была впервые предложена де ла Меттри и утверждает, что материя и, следовательно, физическое тело ответственны за все психические процессы, являющиеся результатом сложных процессов в мозгу.
Однако идеи XVIII века сильно отличались и в некоторых случаях противоречили друг другу, что иллюстрирует Кант, отвергавший представление о том, что наука когда-либо может объяснить сознание, поскольку расчеты и эксперименты не могли быть применены для описания или проверки психических процессов, поскольку они менялись только во времени и были субъективными. Подобно дуализму Декарта, эти концепции легли в основу предпосылки о том, что психология, наука о психике, «не является подходящим предметом для научного исследования», убеждения, которого придерживались многие до конца XIX века.век.
Несмотря на это, человеческие исследования природы сознания привели в движение два важных события, которые способствовали научному изучению сознания в 19 веке. Во-первых, это развитие психофизики, рассматривающей психические явления, пригодные для экспериментов и математического моделирования. Основу этого метода составляют ощущения, а значит, и субъективные переживания, и он показывает, что различия в интенсивности зависят от силы определенного раздражителя. Однако еще нельзя было измерить, какова была связь между этой интенсивностью ощущений и нервной деятельностью.
Однако еще нельзя было измерить, какова была связь между этой интенсивностью ощущений и нервной деятельностью.
В дополнение к развитию психофизики были достигнуты значительные улучшения в понимании нервной системы, которые постепенно накапливались в признании нейрона в качестве основной единицы обработки информации. Это считается одним из главных достижений последних пятидесяти лет и происходило параллельно с появлением теории информации, математической техники, позволяющей количественно определить «количество информации в сигнале, скорость передачи информации через канал связи». канала и пропускной способности канала связи». Связывание применения этой теории с психическими процессами было важным шагом в поисках научного объяснения сознания. В конечном итоге влияние теории информации на психологию привело к формированию когнитивной психологии, что особенно примечательно, поскольку сознание часто является объектом изучения когнитивных психологов. Эти когнитивные психологи в конечном итоге продемонстрировали, что различные когнитивные процессы, такие как память, восприятие и действие, частично обрабатываются на подсознательном, автоматическом уровне; что также считается одним из основных достижений в исследованиях сознания.
Однако одним из основных недостатков когнитивно-психологических методов было то, что результаты когнитивно-психологических экспериментов часто основывались на таких методах, как интроспекция и мета-познание, которые не учитывали возможность того, что испытуемые на самом деле не осознают определенного стимул, когда они его обнаруживают, но их успех является результатом процессов, выполняемых на подсознательном уровне, что является существенным ограничением в исследованиях сознания, поскольку это ускользает от понятия субъективного опыта.
К счастью, разработка новых методов визуализации мозга в последние десятилетия внесла значительный вклад в решение этой проблемы и до сих пор приводит к большому количеству прорывов в области нейробиологии, а также большому разнообразию теорий, пытающихся объяснить сознание. . Однако эти различные теории также внесли свой вклад в непоследовательность исследований сознания, что будет обсуждаться позже.
Текущая находка и сложная задача
Тем не менее, методы визуализации мозга (включая МРТ, фМРТ, ПЭТ и ЭЭГ) разделяют их способность обеспечивать структурное понимание нейронных процессов и их расположения в мозге и предоставляют нейробиологам большое количество возможностей помочь им в их поиск нейронных коррелятов сознания. Таким образом, можно наблюдать характерную черту научных исследований сознания в последние десятилетия в росте огромного количества нейробиологических исследований, направленных на определенные аспекты сознания.
Таким образом, можно наблюдать характерную черту научных исследований сознания в последние десятилетия в росте огромного количества нейробиологических исследований, направленных на определенные аспекты сознания.
Несколько применений этого исследования, например, направлены на изучение невропатологий, нарушенных и измененных форм сознания (иногда также вызванных лекарствами или некоторыми мозговыми добавками). Иллюстрация таких исследований пытается изучить характеристики функционирования мозга людей в «минимально сознательном состоянии», которое является состоянием «сильно измененного сознания, в котором демонстрируются минимальные, но определенные поведенческие признаки самосознания или осознания окружающей среды». К сожалению, результаты этого исследования оказались безуспешными в картировании нейронных процессов, управляющих сознанием. Точно так же, как показывают неудачные попытки исследователей изучить петлю биоэлектрической активности в корково-кортикальных и таламокортикальных петлях, которая отвечает за субъективные переживания, составляющие сознание согласно гипотезе «главной петли», ни одно другое исследование до сих пор не дало результатов. смог открыть нейронные механизмы, объясняющие субъективные переживания.
смог открыть нейронные механизмы, объясняющие субъективные переживания.
Эти неудачные попытки открыть нейронные процессы, из которых состоит сознание, иллюстрируют главную проблему исследования сознания: «сложную проблему». Считается, что эта «трудная проблема» является причиной большинства неудачных научных объяснений сознания. Согласно Чалмерсу, проблемы, стоящие перед исследованием сознания, можно разделить на две категории: «легкие проблемы» и «сложные проблемы». К простым задачам относились объяснения определенных психических явлений, таких как интеграция информации, сосредоточение внимания и различия между сном и бодрствованием, и все они могут быть объяснены с помощью когнитивных и нейрофизиологических моделей, что признано и более точно описано Гринфилдом. и Коллинз.
Однако трудная проблема носит совершенно иной характер и относится к фундаментальному аспекту субъективного опыта, неразрывно связанного с сознанием. Эта проблема возникает из необходимого, но недоказанного предположения, что физические процессы порождают субъективные переживания. Трудности наблюдаются в необъяснимом характере субъективных переживаний, возникающих из определенных механизмов, поскольку, даже когда конкретный механизм объясняется когнитивным или нейронаучным моделированием, из исследования нельзя вывести, почему реальный субъективный опыт связан с этим механизмом. Это создает «объяснительный разрыв» между субъективными аспектами сознания и объективным характером нейронаучных исследований, которые отвечают за «самую сложную задачу для науки о сознании».
Трудности наблюдаются в необъяснимом характере субъективных переживаний, возникающих из определенных механизмов, поскольку, даже когда конкретный механизм объясняется когнитивным или нейронаучным моделированием, из исследования нельзя вывести, почему реальный субъективный опыт связан с этим механизмом. Это создает «объяснительный разрыв» между субъективными аспектами сознания и объективным характером нейронаучных исследований, которые отвечают за «самую сложную задачу для науки о сознании».
Следовательно, можно заметить, что эта «трудная проблема» имеет сходство с проблемой разума и тела, первоначально описанной Декартом, который предложил абсолютное различие между материей и разумом. Однако, по мнению ведущих нейробиологов, этот разрыв вызван отсутствием современного понимания мозга и связанных с ним механизмов, что позволяет предположить, что этот разрыв будет преодолен по мере развития нейронауки и связанных с ней технологий. Этот благоприятный вывод вытекает из того, что аналогичным образом существовали пробелы в объяснении многих фундаментальных вопросов науки, таких как пробелы в объяснении между физикой и химией в XIX веке. го века, или в поисках происхождения жизни в 20 веке.
го века, или в поисках происхождения жизни в 20 веке.
Будущее исследований сознания
Помимо этого, отсутствие согласованности и единства в исследованиях сознания кажется более серьезной проблемой в исследованиях сознания. Теории варьируются от квантово-теоретических подходов, основанных на коллапсе квантовых полей, когерентной суперпозиции микротрубочек и других микрофизических явлений, до различных нейробиологических теорий. Иллюстрации этих нейробиологических теорий основаны на реакции рецепторов на определенных типах синапсов, существовании специфических «нейронов сознания» и зависимости от синхронизированной активности больших групп нейронов. Исходя из этого, научные исследования сознания, кажется, процветают, но сама эта область еще не смогла «создать общую общую картину сознания», и большинство теорий часто предлагают разные принципы и не имеют эмпирических данных, что кажется бесполезным для исследования сознания. .
Согласно Ревонсуо, решением этой ситуации могла бы стать единая исследовательская программа, основанная на предпосылке, что сознание — это «биологический феномен, который буквально находится в пределах мозга» (2009), то, что ранее признавалось необходимая предпосылка Черчленда (1997). Эта исследовательская программа будет рассматривать сознание как часть определенного уровня организации мозга и свяжет исследования сознания в рамках различных биологических наук, особенно когнитивной нейронауки, с этим основным принципом. Подразделив объяснение сознания на несколько уровней описания, которые по своей сути являются более мелкими подзадачами, можно создать многоуровневую модель, которая оформляет различные аспекты сознания в правильном контексте и тем самым устанавливает унифицированную и связную исследовательскую программу. Однако, как бы многообещающе это ни представлялось, следует отметить, что это всего лишь предложение, и его научная осуществимость еще не доказана.
Эта исследовательская программа будет рассматривать сознание как часть определенного уровня организации мозга и свяжет исследования сознания в рамках различных биологических наук, особенно когнитивной нейронауки, с этим основным принципом. Подразделив объяснение сознания на несколько уровней описания, которые по своей сути являются более мелкими подзадачами, можно создать многоуровневую модель, которая оформляет различные аспекты сознания в правильном контексте и тем самым устанавливает унифицированную и связную исследовательскую программу. Однако, как бы многообещающе это ни представлялось, следует отметить, что это всего лишь предложение, и его научная осуществимость еще не доказана.
Тем не менее, системный подход к созданию единства и согласованности в области сознания может оказаться крайне важным, учитывая, что до сих пор наука дала ответы на многие фундаментальные вопросы жизни, но все же природа сознания остается неуловимой концепцией.
Оглядываясь назад, можно сказать, что исследования сознания видели взлеты и падения большого количества теорий и концепций с тех пор, как Декарт сформулировал свою теорию дуализма; начиная от теории двойного аспекта, параллелизма и материализма, предложенных различными философами, до материализма, психоанализа, когнитивной психологии и растущего понимания нервной системы, на которых в настоящее время в основном основан научный подход. Особенно последние аспекты, поддерживаемые самыми последними технологическими достижениями, такими как методы визуализации мозга, могут оказаться успешными в обеспечении удовлетворительного объяснения субъективных переживаний, составляющих сознание, и, таким образом, решить «сложную проблему». Тем не менее, неудачные попытки найти научное объяснение сознания показывают, что, возможно, потребуется сделать технологические усовершенствования, прежде чем это станет возможным. Параллельно с этим нынешнее отсутствие последовательной и теоретической основы оказалось проблематичным. К счастью, благоприятные концепции, такие как исследовательская программа, предложенная Ревонсуо (2009 г.) могут иметь большое значение.
Особенно последние аспекты, поддерживаемые самыми последними технологическими достижениями, такими как методы визуализации мозга, могут оказаться успешными в обеспечении удовлетворительного объяснения субъективных переживаний, составляющих сознание, и, таким образом, решить «сложную проблему». Тем не менее, неудачные попытки найти научное объяснение сознания показывают, что, возможно, потребуется сделать технологические усовершенствования, прежде чем это станет возможным. Параллельно с этим нынешнее отсутствие последовательной и теоретической основы оказалось проблематичным. К счастью, благоприятные концепции, такие как исследовательская программа, предложенная Ревонсуо (2009 г.) могут иметь большое значение.
Таким образом, технологические усовершенствования или единая исследовательская программа однажды смогут объяснить пробел в объяснении, если предположить, что это возможно. Более того, как до сих пор неоднократно доказывала история, человечество способно наводить мосты через такие пропасти, непреодолимыми, как может показаться на первый взгляд, и, таким образом, это может быть только вопросом времени, когда то, что заставляет всех нас думать, сможет, наконец, объясняется наукой.
Об авторе
Дэвид Брэйнс — страстный нейробиолог, который пишет на различные темы, связанные с человеческим мозгом.
Сознание (Стэнфордская философская энциклопедия)
Возможно, нет более знакомого или загадочного аспекта ума, чем сознание и наш сознательный опыт себя и мира. Проблема сознания, возможно, является центральной проблемой в современном мире. теоретизирование о разуме. Несмотря на отсутствие согласованной теории сознания существует широко распространенное, хотя и менее универсальное, консенсус в отношении того, что адекватное описание разума требует четкого понимание его и его места в природе. Нам нужно понять оба что такое сознание и как оно связано с другими, бессознательными аспектами реальности.
Вопросы о природе осознания, вероятно,
просили столько, сколько существуют люди. Неолитические погребальные практики
по-видимому, выражают духовные убеждения и предоставляют ранние доказательства того, что
наименее рефлексивная мысль о природе человека
сознание (Пирсон, 1999; Кларк и Риел-Сальваторе, 2001). Точно так же было обнаружено, что дописьменные культуры неизменно охватывают
некоторая форма духовного или, по крайней мере, анимистического взгляда, указывающая на степень
размышлений о природе сознательного сознания.
Точно так же было обнаружено, что дописьменные культуры неизменно охватывают
некоторая форма духовного или, по крайней мере, анимистического взгляда, указывающая на степень
размышлений о природе сознательного сознания.
Тем не менее, некоторые утверждали, что сознание, каким мы его знаем сегодня, относительно недавнее историческое событие, возникшее через некоторое время после Гомеровская эпоха (Jaynes 1974). Согласно этой точке зрения, древние люди в том числе и те, кто воевал в Троянской войне, на себе не испытали как единые внутренние субъекты своих мыслей и действий, по крайней мере не так, как мы делаем сегодня. Другие утверждали, что даже во время классического периода, в древнегреческом языке не было слова, соответствующего к «сознанию» (Wilkes 1984, 1988, 1995). Хотя древние могли многое сказать о ментальных вопросах, менее ясно, у них были какие-то конкретные концепции или опасения по поводу того, что мы сейчас думаем как сознание.
Хотя слова «сознательный» и
«совесть» сегодня употребляется совсем по-другому, вероятно,
что Реформация делает упор на последнем как на внутреннем источнике истины. сыграло некоторую роль в повороте внутрь себя, столь характерном для современной
рефлексивный взгляд на себя. Гамлет, вышедший на сцену в 1600 году
уже видел свой мир и себя глубоко современными глазами.
сыграло некоторую роль в повороте внутрь себя, столь характерном для современной
рефлексивный взгляд на себя. Гамлет, вышедший на сцену в 1600 году
уже видел свой мир и себя глубоко современными глазами.
К началу раннего Нового времени в XVII в. сознание полностью заняло центральное место в размышлениях об уме. Верно с середины 17 до конца 19 века сознание было широко считается существенным или определяющим для ментального. Рене Декарт определил само понятие мысли ( pensée ) в терминах рефлексивное сознание или самосознание. В Принципах Философия (1640) он писал,
Словом «мысль» (‘ pensée ’) Я понимаю все то, чем мы являемся сознательное как действующее в нас.
Позднее, ближе к концу XVII века, Джон Локк предложил аналогичное, хотя и немного более квалифицированное утверждение в «Эссе о человеке». Понимание (1688),
Я не говорю, что в человеке нет души, потому что он не чувствует это во сне.Но я говорю, что он не может думать в любое время, бодрствования или сна, не осознавая этого. Наше понимание ничего не надо, кроме наших мыслей, а им это и есть им это всегда будет нужно.
Локк открыто отказывался строить какие-либо гипотезы о субстанциальную основу сознания и его отношение к материи, но он ясно считал это важным как для мышления, так и для личного личность.
Современник Локка Г.В. Лейбниц, черпая возможное вдохновение из
его математическая работа по дифференцированию и интегрированию предложила
теории разума в Рассуждении о метафизике (1686), что
допускается бесконечно много степеней сознания и, возможно, даже
для некоторых мыслей, которые были неосознанными, так называемые «маленькие
восприятия». Лейбниц был первым, кто четко выделил
между восприятием и апперцепцией, т. е. примерно между осознанием
и самосознание. В Монадология (1720) он же предложил
его знаменитая аналогия с мельницей, чтобы выразить свою веру в то, что сознание
не мог возникнуть из простой материи. Он попросил читателя представить
кто-то проходит через расширенный мозг, как если бы он прошел через
мельницу и наблюдение за всеми ее механическими операциями, которые для Лейбница
исчерпала свою физическую природу. Нигде, утверждает он, не было бы такого
наблюдатель видит любые сознательные мысли.
Он попросил читателя представить
кто-то проходит через расширенный мозг, как если бы он прошел через
мельницу и наблюдение за всеми ее механическими операциями, которые для Лейбница
исчерпала свою физическую природу. Нигде, утверждает он, не было бы такого
наблюдатель видит любые сознательные мысли.
Несмотря на признание Лейбницем возможности бессознательного
мысль, на протяжении большей части следующих двух столетий области мысли и
сознания считались более или менее одинаковыми. Ассоциация
психология, которой занимался Локк или позже в восемнадцатом веке
Дэвид Хьюм (1739 г.) или в девятнадцатом Джеймсом Миллем (1829 г.), направленным
открыть принципы, по которым сознательные мысли или идеи
взаимодействовали или влияли друг на друга. Сын Джеймса Милля, Джон Стюарт Милль
продолжил работу своего отца по ассоциативной психологии, но он
допускал, что комбинации идей могут привести к результатам, которые
за пределы составляющих их ментальных частей, тем самым предоставив раннюю модель
психическое возникновение (1865 г. ).
).
Чисто ассоциационистский подход подвергся критике в конце восемнадцатого века Иммануилом Кантом (1787), который утверждал, что адекватное учет опыта и феноменального сознания требовал более богатая структура психической и интенциональной организации. Феноменальный сознание, по Канту, не могло быть простой последовательностью связанные идеи, но как минимум должен был быть опыт сознательное я, расположенное в объективном мире, структурированном с уважением к пространству, времени и причинности.
В англо-американском мире ассоциационистские подходы продолжались. оказывать влияние как на философию, так и на психологию в двадцатого века, в то время как в немецкой и европейской сфере было больший интерес к более широкой структуре опыта, который привел к часть изучения феноменологии через работы Эдмунда Гуссерля (1913, 1929), Мартин Хайдеггер (1927), Морис Мерло-Понти (1945) и другие, которые расширили изучение сознания до сферы социальное, телесное и межличностное.
На заре современной научной психологии в середине XIX в. века разум все еще в значительной степени отождествлялся с сознанием, и
в этой области преобладали интроспективные методы, как в работах Вильгельма
Вундт (1897 г.), Герман фон Гельмгольц (1897 г.), Уильям Джеймс (1890 г.) и
Альфред Титченер (1901). Однако отношение сознания к
мозг оставался в значительной степени загадкой, как это выражено в книге Т. Г. Хаксли.
Знаменитое замечание,
века разум все еще в значительной степени отождествлялся с сознанием, и
в этой области преобладали интроспективные методы, как в работах Вильгельма
Вундт (1897 г.), Герман фон Гельмгольц (1897 г.), Уильям Джеймс (1890 г.) и
Альфред Титченер (1901). Однако отношение сознания к
мозг оставался в значительной степени загадкой, как это выражено в книге Т. Г. Хаксли.
Знаменитое замечание,
Как получается, что что-то столь замечательное, как состояние сознание возникает в результате раздражения нервной ткани, так же необъяснимо, как появление Джина, когда Аладдин протер свою лампу (1866 г.).
В начале двадцатого века произошло затмение сознания от
научной психологии, особенно в Соединенных Штатах с ростом
бихевиоризм (Watson 1924, Skinner 1953), хотя такие движения, как
В гештальт-психологии этот вопрос оставался предметом постоянного научного интереса.
Европа (Келер, 1929, Кёффка, 1935). В 1960-е годы власть
бихевиоризм ослаб с появлением когнитивной психологии и ее
акцент на обработке информации и моделировании внутреннего психического
процессов (Нейссера 1965, Гардинер, 1985). Однако, несмотря на возобновление
акцент на объяснении когнитивных способностей, таких как память, восприятие
и понимание языка, сознание оставалось в значительной степени пренебрегаемым
тема еще на несколько десятков лет.
Однако, несмотря на возобновление
акцент на объяснении когнитивных способностей, таких как память, восприятие
и понимание языка, сознание оставалось в значительной степени пренебрегаемым
тема еще на несколько десятков лет.
В 1980-х и 90-х годах произошло крупное возрождение научных и философское исследование природы и основы сознания (Баарс 1988, Деннет 1991, Пенроуз 1989, 1994, Крик 1994, Ликан 1987, 1996, Чалмерс 1996). Как только сознание снова стало предметом обсуждения, было быстрое распространение исследований с потоком книг и статей, а также введение специализированных журналов ( Журнал исследований сознания, сознания и познания, Психея) , профессиональные общества (Ассоциация научных Study of Consciousness — ASSC) и ежегодные конференции, посвященные исключительно своему исследованию («Наука о Сознание»).
Слова «сознание» и «сознание»
являются общими терминами, которые охватывают широкий спектр психических явлений. Оба
употребляются в различных значениях, а прилагательное
«сознательный» неоднороден в своем диапазоне, применяясь
как к целым организмам — сознанию существ — так и к
определенные психические состояния и процессы — состояние сознания
(Розенталь 1986, Дженнаро 1995, Каррутерс 2000).
2.1 Сознание существа
Животное, человека или другую когнитивную систему можно рассматривать как осознавать в различных смыслах.
Разум. Он может быть сознательным в общем смысле просто быть разумным существом, способным ощущать и реагируя на свой мир (Армстронг, 1981). Быть сознательным в этом смысле могут принимать степени, и какие именно сенсорные способности достаточный не может быть четко определен. Сознательны ли рыбы в соответствующее уважение? А что насчет креветок или пчел?
Бодрствование. Можно также потребовать, чтобы организм
фактически осуществлять такую способность, а не просто иметь
способность или склонность к этому. Таким образом, можно считать его сознательным
только если бы он был бодрствующим и обычно бдительным. В этом смысле
организмы не будут считаться сознательными, когда они спят или находятся в каком-либо из
более глубокие уровни комы. Опять границы могут быть размытыми и промежуточными. дела могут быть связаны. Например, является ли человек сознательным в соответствующем
смысл во сне, загипнотизированный или в состоянии фуги?
дела могут быть связаны. Например, является ли человек сознательным в соответствующем
смысл во сне, загипнотизированный или в состоянии фуги?
Самосознание. Третье и еще более требовательное чувство можно определить сознательных существ как тех, кто не только осознает, но и также осознают, что они осознают, таким образом рассматривая сознание существа как форма самосознания (Carruthers 2000). потребность в самосознании может интерпретироваться по-разному, и какие существа можно было бы квалифицировать как сознательные в соответствующем смысле соответственно будет варьироваться. Если принять во внимание явное концептуальное самосознание, многие нечеловеческие животные и даже маленькие дети могут не квалифицировать, но если только более рудиментарные имплицитные формы требуется самосознание, то широкий спектр неязыковых существа могут считаться самосознательными.
Каково это. Томас Нагель (1974)
знаменитый «на что это похоже» критерий направлен на захват
другое и, возможно, более субъективное понятие о том, чтобы быть сознательным
организм. Согласно Нагелю, существо обладает сознанием только в том случае, если
«что-то вроде» быть этим существом, т. е. неким
субъективный способ, которым мир кажется или появляется из ментального или
опытная точка зрения. В примере Нагеля летучие мыши обладают сознанием.
потому что есть что-то похожее на летучую мышь
мира через его эхолокационные чувства, хотя мы, люди, из нашего
человеческая точка зрения не может категорически понять, что такое способ
сознание похоже на собственную точку зрения летучей мыши.
Согласно Нагелю, существо обладает сознанием только в том случае, если
«что-то вроде» быть этим существом, т. е. неким
субъективный способ, которым мир кажется или появляется из ментального или
опытная точка зрения. В примере Нагеля летучие мыши обладают сознанием.
потому что есть что-то похожее на летучую мышь
мира через его эхолокационные чувства, хотя мы, люди, из нашего
человеческая точка зрения не может категорически понять, что такое способ
сознание похоже на собственную точку зрения летучей мыши.
Субъект сознательных состояний. Пятой альтернативой может быть
определить понятие сознательного организма в терминах сознательного
состояния. То есть можно было бы сначала определить, что делает психическое состояние
сознательное психическое состояние, а затем определить, что значит быть сознательным существом в
Условия существования таких состояний. Представление о сознательном организме
тогда зависело бы от конкретного описания сознательного
состояния (раздел 2.2).
Переходное сознание. Помимо описания существа как сознательные в этих различных смыслах, есть также родственные смыслах, в которых существа описываются как в сознании разные вещи. Различие иногда отмечается как различие между переходные и непереходные понятия сознания, с первым, связанным с каким-либо объектом, на котором сознание режиссер (Розенталь, 1986).
2.2 Сознание состояния
Понятие сознательного психического состояния также имеет множество различные, хотя, возможно, и взаимосвязанные значения. Есть как минимум шесть основные варианты.
Известные состояния. При одном обычном прочтении сознательный
психическое состояние — это просто психическое состояние, в котором человек осознает, что находится
(Розенталь, 1986, 1996). Сознательные состояния в этом смысле включают форму мета-ментальности или мета-интенциональности постольку, поскольку
они требуют ментальных состояний, которые сами являются ментальными состояниями. К
иметь сознательное желание выпить чашечку кофе, значит иметь такое желание
а также одновременно и непосредственно осознавать, что у
желание. Бессознательные мысли и желания в этом смысле просто
те, которые у нас есть, не осознавая того, что они у нас есть, будь то отсутствие
самопознание является результатом простого невнимания или более глубокого
психоаналитические причины.
К
иметь сознательное желание выпить чашечку кофе, значит иметь такое желание
а также одновременно и непосредственно осознавать, что у
желание. Бессознательные мысли и желания в этом смысле просто
те, которые у нас есть, не осознавая того, что они у нас есть, будь то отсутствие
самопознание является результатом простого невнимания или более глубокого
психоаналитические причины.
Качественные состояния. Государства также могут рассматриваться как
сознательное в, казалось бы, совсем ином и более качественном смысл. То есть можно считать состояние сознательным только в том случае, если оно имеет или
включает в себя качественные или эмпирические свойства такого рода, которые часто
называемые «qualia» или «сырые сенсорные ощущения».
(Смотри запись на
квалиа.)
Восприятие мерло, которое пьют, или ткани
рассматривает счет как сознательное психическое состояние в этом смысле, потому что
он включает в себя различные сенсорные квалиа, например вкусовые квалиа в вине
квалиа футляра и цвета в визуальном восприятии ткани. Там
существуют значительные разногласия по поводу природы таких квалиа
(Черчленд 1985, Шумейкер 1990, Кларк 1993, Чалмерс 1996) и даже
об их существовании. Традиционно квалиа считались
внутренние, частные, невыразимые монадические черты опыта, но
Современные теории квалиа часто отвергают по крайней мере некоторые из этих
обязательства (Dennett 1990).
Там
существуют значительные разногласия по поводу природы таких квалиа
(Черчленд 1985, Шумейкер 1990, Кларк 1993, Чалмерс 1996) и даже
об их существовании. Традиционно квалиа считались
внутренние, частные, невыразимые монадические черты опыта, но
Современные теории квалиа часто отвергают по крайней мере некоторые из этих
обязательства (Dennett 1990).
Феноменальные состояния. Такие квалиа иногда называют
феноменальные свойства и связанный с ними вид сознания как феноменальное сознание, но последний термин, возможно, более
правильно применяется к общей структуре опыта и включает в себя
гораздо больше, чем сенсорные квалиа. Феноменальная структура сознания
также охватывает большую часть пространственного, временного и концептуального
организация нашего опыта мира и самих себя как агентов
в этом. (см. раздел
4.3)
Поэтому, вероятно,
лучше всего, по крайней мере вначале, различать понятие феноменального
сознания от качественного сознания, хотя они и не
сомнения перекрываются.
Состояние «как оно есть». Сознание в обоих смыслах также связывается с концепцией сознательного сознания Томаса Нагеля (1974). существо, поскольку можно считать психическое состояние сознательным в «на что похоже » смысл, если что-то есть что это похоже на то, чтобы быть в этом состоянии. Критерий Нагеля может быть понимается как стремление обеспечить представление от первого лица или внутреннюю концепцию того, что делает состояние феноменальным или качественным состоянием.
Доступ к сознанию. Состояния могут быть сознательными в
казалось бы, совсем другой смысл доступа, который больше связан с
внутрипсихические отношения. В этом отношении сознательность состояния есть
вопрос его готовности к взаимодействию с другими государствами и
доступ к его содержимому. В этом более функциональном смысле
что соответствует тому, что Нед Блок (1995) называет доступом сознание, визуальное состояние сознания не столько
вопрос о том, имеет ли он качественный «какой он
подобие», но от того, является ли оно и визуальная информация
который он несет, обычно доступен для использования и руководства
организм. Насколько информация в этом состоянии богата и
гибко доступный для содержащего его организма, то он считается
сознательное состояние в соответствующем отношении, независимо от того, имеет ли оно какое-либо
качественное или феноменальное чувство в смысле Нагеля.
Насколько информация в этом состоянии богата и
гибко доступный для содержащего его организма, то он считается
сознательное состояние в соответствующем отношении, независимо от того, имеет ли оно какое-либо
качественное или феноменальное чувство в смысле Нагеля.
Нарративное сознание. Государства также могут рассматриваться как повествовательный смысл, который апеллирует к понятию «поток сознания», рассматриваемый как продолжающийся более или менее последовательное повествование эпизодов с точки зрения реального или просто виртуальное я. Идея заключалась бы в том, чтобы приравнять сознательные психические состояния с теми, которые появляются в потоке (Деннетт 1991, 1992).
Хотя эти шесть понятий того, что делает государство сознательным, можно
независимо указанные, они явно не лишены потенциала
ссылки, и они не исчерпывают область возможных вариантов. Рисунок
связи, можно утверждать, что состояния возникают в потоке
сознание только в той мере, в какой мы их осознаем, и, таким образом, формируем
связь между первым метаментальным понятием сознательного состояния и
поток или повествовательная концепция. Или можно связать доступ с
качественные или феноменальные представления о состоянии сознания, пытаясь
показать, что состояния, которые представляют таким образом, делают свое содержание
широко доступны в отношении, требуемом понятием доступа.
Или можно связать доступ с
качественные или феноменальные представления о состоянии сознания, пытаясь
показать, что состояния, которые представляют таким образом, делают свое содержание
широко доступны в отношении, требуемом понятием доступа.
Стремясь выйти за пределы шести вариантов, можно выделить сознательные
из бессознательных состояний путем обращения к аспектам их внутрипсихического
динамика и взаимодействия, отличные от простых отношений доступа; например.,
сознательные состояния могут демонстрировать более богатый запас чувствительных к содержанию
взаимодействия или большей степени гибкого целевого руководства
вид, связанный с самосознательным контролем мысли.
В качестве альтернативы можно попытаться определить сознательные состояния в терминах
сознательные существа. То есть можно дать некоторое представление о том, что это такое.
быть сознательным существом или, возможно, даже сознательным я, а затем
определить свое понятие сознательного состояния с точки зрения того, чтобы быть состоянием
такое существо или система, которая была бы противоположностью последней
рассмотренный выше вариант определения сознательных существ с точки зрения
осознанные психические состояния.
2.3 Сознание как сущность
Существительное «сознание» имеет столь же разнообразный диапазон значений. значения, которые во многом аналогичны значениям прилагательного «сознательный». Можно провести различие между существом и государственного сознания, а также среди разновидностей каждого. Можно обращаться конкретно к феноменальному сознанию, доступу к сознанию, рефлексивное или метаментальное сознание и нарративное сознание среди других сортов.
Здесь само сознание обычно не рассматривается как субстантивное
сущности, а просто абстрактное овеществление любого свойства или
аспект определяется соответствующим использованием прилагательного
«сознательный». Сознание доступа — это всего лишь свойство
наличие требуемого вида внутренних отношений доступа и качественных
сознание есть просто свойство, которое приписывается, когда
«сознательный» применяется в качественном смысле к психическим
состояния. Насколько это обязывает человека к онтологическому статусу
сознание само по себе будет зависеть от того, насколько человек платоник. про универсалы вообще. (Смотри запись на
средневековая проблема универсалий.)
Он больше не должен привязывать человека к сознанию как к отдельной сущности.
чем использование слов «квадрат», «красный» или
«мягкий» обязывает к существованию прямоугольности,
покраснение или мягкость как отдельные сущности.
про универсалы вообще. (Смотри запись на
средневековая проблема универсалий.)
Он больше не должен привязывать человека к сознанию как к отдельной сущности.
чем использование слов «квадрат», «красный» или
«мягкий» обязывает к существованию прямоугольности,
покраснение или мягкость как отдельные сущности.
Хотя это не является нормой, тем не менее, можно было бы принять более робастно-реалистический взгляд на сознание как составляющую реальности. Что можно ли думать о сознании как о более равном электромагнитные поля, чем с жизнью.
С кончиной витализма мы не думаем о жизни в
se как нечто отличное от живых существ. Есть живые
вещи, включая организмы, состояния, свойства и части организмов,
сообщества и эволюционные линии организмов, но жизнь не
сама по себе дальнейшая вещь, дополнительная составляющая реальности, какой-то жизненный
сила, которая добавляется в живые существа. Мы применяем прилагательные
«живой» и «живой» правильно ко многим вещам,
и при этом можно сказать, что мы приписываем им жизнь, но
без какого-либо значения или реальности, кроме того, что связано с их существованием
живые существа.
Электромагнитные поля, напротив, считаются реальными и самостоятельные части нашего физического мира. Хотя иногда можно иметь возможность указывать значения такого поля путем обращения к поведению частиц в нем, сами поля рассматриваются как конкретные составляющие реальности, а не просто как абстракции или наборы отношения между частицами.
Точно так же можно рассматривать «сознание» как относящееся к компоненту или аспекту реальности, который проявляется в сознательном государств и существ, но представляет собой нечто большее, чем просто абстрактное номинализацию прилагательного «сознательный» мы применяем к их. Хотя такие сильно реалистические взгляды не очень распространены в присутствуют, они должны быть включены в логическое пространство опции.
Таким образом, существует множество понятий сознания, и оба
«сознание» и «сознание» используются в
широкий спектр способов без привилегированного или канонического значения. Однако,
это может быть меньше смущения, чем смущение богатства. Сознание — сложная характеристика мира, и понимание его
потребует разнообразия концептуальных инструментов для работы с его многочисленными
различные аспекты. Концептуальная множественность, таким образом, как раз то, что можно было бы
Надеемся на. До тех пор, пока человек избегает путаницы, четко осознавая свою
значений, большое значение имеет наличие множества понятий, с помощью которых
мы можем получить доступ и постичь сознание во всей его богатой сложности.
Однако не следует полагать, что концептуальная множественность подразумевает
референтная дивергенция. Наши множественные концепции сознания могут в
на самом деле выделить различные аспекты одного единого лежащего в основе ментального
явление. Делают ли они это и в какой степени, остается открытым
вопрос.
Сознание — сложная характеристика мира, и понимание его
потребует разнообразия концептуальных инструментов для работы с его многочисленными
различные аспекты. Концептуальная множественность, таким образом, как раз то, что можно было бы
Надеемся на. До тех пор, пока человек избегает путаницы, четко осознавая свою
значений, большое значение имеет наличие множества понятий, с помощью которых
мы можем получить доступ и постичь сознание во всей его богатой сложности.
Однако не следует полагать, что концептуальная множественность подразумевает
референтная дивергенция. Наши множественные концепции сознания могут в
на самом деле выделить различные аспекты одного единого лежащего в основе ментального
явление. Делают ли они это и в какой степени, остается открытым
вопрос.
Задача понимания сознания столь же многообразна.
проект. Мало того, что многие различные аспекты ума считаются сознательными
в некотором смысле каждый также открыт для различных аспектов, в которых он мог бы
быть объяснено или смоделировано. Понимание сознания включает в себя
множественность не только объяснений, но и вопросов, которые они
позы и виды ответов, которые они требуют. С риском
упрощая, соответствующие вопросы могут быть собраны в три
грубые рубрики в виде вопросов «Что», «Как» и «Почему»:
Понимание сознания включает в себя
множественность не только объяснений, но и вопросов, которые они
позы и виды ответов, которые они требуют. С риском
упрощая, соответствующие вопросы могут быть собраны в три
грубые рубрики в виде вопросов «Что», «Как» и «Почему»:
- Описательный вопрос: Что такое сознание? Что его основные черты? И какими средствами их лучше всего обнаружить, описано и смоделировано?
- Пояснительный вопрос: Как сознание соответствующий вид появился? Является ли это примитивным аспектом реальности, и если нет, то как возникает (или может) сознание в соответствующем отношении из бессознательных сущностей или процессов или быть вызваны ими?
- Функциональный вопрос: Почему делает сознание соответствующий вид существует? Есть ли у него функция, и если да, то какая? Действует ли оно причинно, и если да, то с какими следствиями? Делает ли это отличие от работы систем, в которых оно присутствует, и если так почему и как?
Три вопроса сосредоточены соответственно на описании особенностей
сознания, объясняя лежащую в его основе основу или причину, и
объясняя его роль или значение. Подразделения среди трех
конечно, несколько искусственно, и на практике ответы, которые дают
каждый будет частично зависеть от того, что один говорит о других. Можно
не, например, адекватно ответить на вопрос что и описать
главные черты сознания, не обращаясь к вопросу «почему» его
функциональную роль в системах, на работу которых она влияет. И не мог
объяснить, как соответствующий тип сознания может возникнуть из
бессознательные процессы, если только у человека нет четкого представления о том, что именно
признаки должны были быть вызваны или реализованы, чтобы считаться их производящими. Те
Несмотря на предостережения, трехстороннее разделение вопросов обеспечивает
полезная структура для формулирования общего объяснительного проекта и
для оценки адекватности конкретных теорий или моделей
сознание.
Подразделения среди трех
конечно, несколько искусственно, и на практике ответы, которые дают
каждый будет частично зависеть от того, что один говорит о других. Можно
не, например, адекватно ответить на вопрос что и описать
главные черты сознания, не обращаясь к вопросу «почему» его
функциональную роль в системах, на работу которых она влияет. И не мог
объяснить, как соответствующий тип сознания может возникнуть из
бессознательные процессы, если только у человека нет четкого представления о том, что именно
признаки должны были быть вызваны или реализованы, чтобы считаться их производящими. Те
Несмотря на предостережения, трехстороннее разделение вопросов обеспечивает
полезная структура для формулирования общего объяснительного проекта и
для оценки адекватности конкретных теорий или моделей
сознание.
Вопрос What предлагает нам описать и смоделировать
основные черты сознания, но какие черты
актуальность будет варьироваться в зависимости от того, какое сознание мы стремимся уловить. Основные свойства сознания доступа могут быть совершенно непохожи на те, что
качественного или феноменального сознания, а также рефлексивного
сознание или нарративное сознание могут отличаться от обоих. Однако,
строя подробные теории каждого типа, мы можем надеяться найти
важные связи между ними и, возможно, даже обнаружить, что они
совпадают по крайней мере в некоторых ключевых отношениях.
Основные свойства сознания доступа могут быть совершенно непохожи на те, что
качественного или феноменального сознания, а также рефлексивного
сознание или нарративное сознание могут отличаться от обоих. Однако,
строя подробные теории каждого типа, мы можем надеяться найти
важные связи между ними и, возможно, даже обнаружить, что они
совпадают по крайней мере в некоторых ключевых отношениях.
4.1 Данные от первого и третьего лица
Общий описательный проект потребует различных методы исследования (Flanagan 1992). Хотя можно наивно считать факты сознания слишком самоочевидными, чтобы требовать каких-либо систематических методов сбора данных, эпистемологическая задача на самом деле далеко не тривиальный (Husserl 1913).
Интроспективный доступ от первого лица обеспечивает богатый и важный
источником проникновения в нашу сознательную ментальную жизнь, но это не
достаточна сама по себе и даже не особенно полезна, если не используется в
обученным и дисциплинированным образом. Сбор необходимых доказательств о
структура опыта требует, чтобы мы оба стали феноменологически
изощренных самонаблюдателей и дополнить наш интроспективный
результаты со многими типами данных от третьего лица, доступных для внешних
наблюдатели (Серл 1992, Варела 1995, Зиверт 1998)
Сбор необходимых доказательств о
структура опыта требует, чтобы мы оба стали феноменологически
изощренных самонаблюдателей и дополнить наш интроспективный
результаты со многими типами данных от третьего лица, доступных для внешних
наблюдатели (Серл 1992, Варела 1995, Зиверт 1998)
Как уже более века известно феноменологам, открывая структура сознательного опыта требует строгой внутренней направленности. позицию, которая совершенно не похожа на нашу повседневную форму самосознания (Гуссерль, 1929; Мерло-Понти, 1945). Умелое наблюдение за необходимым сортировка требует обучения, усилий и способности принимать альтернативные точки зрения на собственный опыт.
Потребность в эмпирических данных от третьего лица, собранных внешними
наблюдателей, пожалуй, наиболее очевиден в отношении более четкого
функциональные типы сознания, такие как сознание доступа, но это
требуется даже в отношении феноменального и качественного
сознание. Например, исследования дефицита, которые коррелируют различные
нервные и функциональные участки повреждения с аномалиями сознания
Опыт может помочь нам осознать аспекты феноменальной структуры, которые
избежать нашего обычного интроспективного осознания. Как показывают подобные тематические исследования,
в опыте могут развалиться вещи, которые кажутся неразрывно едиными или
единственное в своем роде с нашей обычной точки зрения от первого лица (Сакс 1985,
Шаллис 1988, Фарах 1995).
Как показывают подобные тематические исследования,
в опыте могут развалиться вещи, которые кажутся неразрывно едиными или
единственное в своем роде с нашей обычной точки зрения от первого лица (Сакс 1985,
Шаллис 1988, Фарах 1995).
Или, если взять другой пример, данные от третьего лица могут помочь нам узнать о как наш опыт актерского мастерства и наш опыт определения времени событий влияют друг на друга способами, которые мы никогда не смогли бы различить простым самоанализ (Либет, 1985; Вегнер, 2002). Факты, собранные не эти методы третьего лица просто о причинах или основаниях сознание; они часто касаются самой структуры феноменального само сознание. От первого лица, от третьего лица и, возможно, даже от второго лица (Варела 1995) потребуются все интерактивные методы, чтобы собрать необходимые доказательства.
Используя все эти источники данных, мы надеемся, что сможем
строить подробные описательные модели различных видов
сознание. Хотя наиболее важные особенности могут различаться
среди различных типов, наш общий описательный проект должен будет
обратиться по крайней мере к следующим семи основным аспектам сознания
(разделы 4. 2–4.7).
2–4.7).
4.2 Качественный признак
Качественный признак часто отождествляют с так называемым «сырые ощущения» и проиллюстрировано покраснением, которое человек испытывает когда смотришь на спелые помидоры или на специфический сладкий вкус встречается, когда пробуешь одинаково спелый ананас (Locke 1688). соответствующий вид качественного характера не ограничивается сенсорными состояний, но обычно считается присутствующим как аспект эмпирические состояния в целом, такие как пережитые мысли или желания (Зиверт, 1998).
Некоторым может показаться, что существование таких чувств отмечает порог
для состояний или существ, которые действительно сознательны. Если организм
чувствует и адекватно реагирует на свой мир, но ему не хватает таких квалиа,
тогда он мог бы считаться сознательным в лучшем случае в свободном и менее чем
буквальном смысле. Или так, по крайней мере, казалось бы тем, кто принимает
качественное сознание в смысле «на что это похоже»
занимать центральное место в философии и науке (Nagel 1974, Чалмерс
1996).
Проблемы квалиа во многих формах. Могут ли существовать перевернутые квалиа? (Блок 1980a 1980b, Шумейкер 1981, 1982) Являются ли квалиа эпифеноменальными? (Джексон, 1982, Чалмерс, 1996) Как нейронные состояния могут привести к квалиа? (Левин, 1983, МакГинн, 1991) — приобрели большое значение в недавнее прошлое. Но вопрос «Что» поднимает более фундаментальную проблему квалиа: а именно, давать ясное и четкое описание наше пространство квалиа и статус конкретных квалиа в нем.
В отсутствие такой модели фактические или описательные ошибки слишком
вероятно. Например, претензии по поводу неразборчивости ссылки
между переживаемым красным и любым возможным нейронным субстратом такого
опыт иногда трактует соответствующее цветовое качество как простое и sui generis свойство (Levine 1983), но феноменальное покраснение в
факт существует в сложном цветовом пространстве с множественными систематическими
измерения и отношения подобия (Hardin 1992). Понимание
определенное цветовое качество по отношению к этой более крупной реляционной структуре, не
только дает нам лучшее описательное понимание его качественной природы, это
может также предоставить некоторые «крючки», к которым можно прикрепить
понятные психофизические связи.
Цвет может быть исключением с точки зрения наличия у нас определенного и хорошо развитое формальное понимание соответствующего качественного пространства, но это, вероятно, не исключение в отношении важности такого пространств к нашему пониманию качественных свойств в целом (Кларк 1993, П.М. Черчленд, 1995). (Смотри запись на qualia.)
4.3 Феноменальная структура
Феноменальную структуру не следует отождествлять с
качественная структура, несмотря на иногда взаимозаменяемое использование
«квалиа» и «феноменальные свойства» в
литература. «Феноменальная организация» охватывает все
различные виды порядка и структуры, обнаруженные в области
опыта, т. е. в сфере мира, как он проявляется нам. Очевидно, существуют важные связи между феноменальным и
качественный. Действительно, квалиа лучше всего понимать как свойства.
феноменальных или переживаемых объектов, но на самом деле нужно гораздо больше
феноменальный, чем необработанные чувства. Как Кант (1787), Гуссерль (1913), и
поколения феноменологов показали, что феноменальная структура
опыт глубоко интенционален и включает в себя не только сенсорные идеи
и качества, но сложные представления времени, пространства, причины, тела,
Я, мир и организованная структура переживаемой реальности во всей ее
концептуальные и неконцептуальные формы.
Поскольку многие бессознательные состояния также имеют преднамеренные и репрезентативные аспекты, возможно, лучше всего рассматривать феноменальные структура как предполагающая особый вид преднамеренных и репрезентативная организация и содержание, вид отчетливо связанный с сознанием (Siewert 1998). (Смотри запись на репрезентативные теории сознания).
Ответ на вопрос «Что» требует тщательного учета последовательную и плотно организованную репрезентативную структуру, в которой закрепляются определенные переживания. Поскольку большая часть этой структуры только имплицитно в организации опыта, он не может быть просто прочитайте самоанализом. Расчленение структуры феноменального домен в понятной и доходчивой форме — это долгий и сложный процесс вывода и построения моделей (Гуссерль 1929). Самоанализ может помочь это, но много теоретического построения и изобретательности также необходимы.
В последнее время велись философские дебаты о диапазоне
свойства, которые феноменально присутствуют или проявляются в сознательном
опыт, в частности, в отношении когнитивных состояний, таких как
верить или думать. Одни выступали за так называемую
«тонкий» взгляд, согласно которому феноменальные свойства
ограничивается квалиа, представляющими основные сенсорные свойства, такие как
цвета, формы, тона и ощущения. По мнению таких теоретиков,
не является отличительным «что-это-подобие», вовлеченным в
полагая, что Париж — столица Франции или что 17 — простое
номер (Тай, Принц, 2012). Некоторые изображения, например Эйфелева башня, могут
сопровождают наши такие мысли, но это не относится к ним
а само когнитивное состояние не имеет феноменального ощущения. На тонком
точки зрения, феноменальный аспект перцептивных состояний также ограничен
основные сенсорные функции; когда видишь образ Уинстона Черчилля,
перцептивная феноменология ограничена только пространственными аспектами
его лица.
Одни выступали за так называемую
«тонкий» взгляд, согласно которому феноменальные свойства
ограничивается квалиа, представляющими основные сенсорные свойства, такие как
цвета, формы, тона и ощущения. По мнению таких теоретиков,
не является отличительным «что-это-подобие», вовлеченным в
полагая, что Париж — столица Франции или что 17 — простое
номер (Тай, Принц, 2012). Некоторые изображения, например Эйфелева башня, могут
сопровождают наши такие мысли, но это не относится к ним
а само когнитивное состояние не имеет феноменального ощущения. На тонком
точки зрения, феноменальный аспект перцептивных состояний также ограничен
основные сенсорные функции; когда видишь образ Уинстона Черчилля,
перцептивная феноменология ограничена только пространственными аспектами
его лица.
Другие придерживаются «толстого» взгляда, согласно которому
феноменология восприятия включает в себя гораздо более широкий круг признаков
и когнитивные состояния также имеют отличительную феноменологию.
(Стросон, 2003 г. , Питт, 2004 г., Сейгель, 2010 г.). На толстом изображении
что-это-подобие восприятия образа Мэрилин Монро включает в себя
признание ее истории частью чувственного аспекта
опыт, убеждения и мысли также могут иметь и обычно имеют
своеобразная бессенсорная феноменология. Обе стороны спора
хорошо представлены в книге «Когнитивная феноменология» (Бейн и
Монтегю 2010).
, Питт, 2004 г., Сейгель, 2010 г.). На толстом изображении
что-это-подобие восприятия образа Мэрилин Монро включает в себя
признание ее истории частью чувственного аспекта
опыт, убеждения и мысли также могут иметь и обычно имеют
своеобразная бессенсорная феноменология. Обе стороны спора
хорошо представлены в книге «Когнитивная феноменология» (Бейн и
Монтегю 2010).
4.4 Субъективность
Субъективность — еще одно понятие, иногда отождествляемое с качественные или феноменальные аспекты сознания в литературы, но опять же есть веские основания признать ее, по крайней мере в некоторых своих формах как отличительная черта сознание — относящееся к качественному и феноменальному, но отличается от каждого. В частности, эпистемологическая форма субъективность касается очевидных ограничений познаваемости или даже понятность различных фактов о сознательном опыте (Нагель 1974, Ван Гулик, 1985, Ликан, 1996).
По мнению Томаса Нагеля (1974), факты о том, каково это быть
летучая мышь субъективны в соответствующем смысле, потому что они могут быть полностью
понимается только с точки зрения летучей мыши. Только существа, способные
наличия или прохождения подобных переживаний, может понять их
что-это-подобие в необходимом эмпатическом смысле. Факты о
сознательный опыт может быть в лучшем случае не полностью понят из
точка зрения третьего лица, например, связанная с
объективная физическая наука. Аналогичное мнение о пределах
Теория третьего лица, по-видимому, лежит в основе заявлений о том, что Франк
Джексон (1982) гипотетическая Мэри, суперцветовед, могла бы
не понимает о том, что испытывает красный цвет из-за собственного обедневшего
история ахроматического зрительного опыта.
Только существа, способные
наличия или прохождения подобных переживаний, может понять их
что-это-подобие в необходимом эмпатическом смысле. Факты о
сознательный опыт может быть в лучшем случае не полностью понят из
точка зрения третьего лица, например, связанная с
объективная физическая наука. Аналогичное мнение о пределах
Теория третьего лица, по-видимому, лежит в основе заявлений о том, что Франк
Джексон (1982) гипотетическая Мэри, суперцветовед, могла бы
не понимает о том, что испытывает красный цвет из-за собственного обедневшего
история ахроматического зрительного опыта.
Действительно ли факты об опыте эпистемически ограничены в
этот путь открыт для обсуждения (Lycan 1996), но утверждение, что
понимание сознания требует особых форм познания и
доступ с внутренней точки зрения интуитивно правдоподобен и имеет
долгая история (Локк 1688). Таким образом, любой адекватный ответ на вопрос Что
вопрос должен касаться эпистемологического статуса сознания, как нашего
способности понять его и их пределы (Papineau 2002, Chalmers
2003). (Смотри запись на
самопознание).
(Смотри запись на
самопознание).
4.5 Самоорганизация
Перспективная структура сознания является одним из аспектов его в целом феноменальная организация, но она достаточно важна, чтобы заслужить обсуждение само по себе. Поскольку ключевая точка зрения состоит в том, что сознательное я, специфическая черта может быть названа самоуверенность. Сознательные переживания не существуют как изолированные ментальные атомы, а как модусы или состояния сознательной самости или предмет (Декарт 1644, Сирл 1992, хотя темп Юм 1739). визуальный переживание синей сферы всегда связано с наличием некоторого «я». или субъект, который появился таким образом. Острая и колющая боль бывает всегда боль, ощущаемая или переживаемая каким-либо сознательным субъектом. Я не обязательно должно появляться как явный элемент нашего опыта, но, как сказал Кант, (1787) отметил, что «я думаю» должно, по крайней мере, потенциально сопровождать каждого из них.
«Я» можно рассматривать как точку зрения, с которой
мир объектов присутствует в опыте (Витгенштейн 1921). Это
обеспечивает не только пространственную и временную перспективу для нашего опыта
мира, но также и значение и понятность.
интенциональная когерентность эмпирической области опирается на двойственное
взаимозависимость между собой и миром: я как перспектива
какие объекты известны и мир как целостная структура
объекты и события, возможность переживания которых имплицитно
определить природу и местонахождение себя (Кант 1787, Гуссерль
1929).
Это
обеспечивает не только пространственную и временную перспективу для нашего опыта
мира, но также и значение и понятность.
интенциональная когерентность эмпирической области опирается на двойственное
взаимозависимость между собой и миром: я как перспектива
какие объекты известны и мир как целостная структура
объекты и события, возможность переживания которых имплицитно
определить природу и местонахождение себя (Кант 1787, Гуссерль
1929).
Сознательные организмы, очевидно, различаются по степени, в которой они
составляют единое и связное «я», и они, вероятно, различаются
соответственно в виде или степени перспективного фокуса, который они воплощают в
соответствующие им формы опыта (Lorenz, 1977). Сознание может
не требуют отдельного или субстанциального «я» традиционного картезианского
своего рода, но, по крайней мере, в некоторой степени перспективно-самоподобной организации
кажется необходимым для существования чего-либо, что может считаться
осознанный опыт. Кажется, что переживания больше не могут существовать без
себе или субъекту подвергнуться им, чем океанские волны могли бы существовать без
море, по которому они плывут. Таким образом, описательный вопрос требует
некоторое объяснение аспекта опыта, основанного на самооценке, и
самоподобная организация сознательных умов, от которых она зависит, даже если
релевантная версия трактует самость относительно дефляционно и
виртуальный путь (Деннет 1991, 1992).
Таким образом, описательный вопрос требует
некоторое объяснение аспекта опыта, основанного на самооценке, и
самоподобная организация сознательных умов, от которых она зависит, даже если
релевантная версия трактует самость относительно дефляционно и
виртуальный путь (Деннет 1991, 1992).
4.6 Единство
Единство тесно связано с самооценкой, но оно заслуживает отдельного упоминания как ключевой аспект организации сознания. Сознательные системы и сознательные психические состояния включают множество разнообразных форм единства. Некоторые причинно-следственные связи связаны с интеграцией действий и контроля в единый фокус агентство. Другие представляют собой более репрезентативные и преднамеренные формы единства. включая интеграцию различных элементов контента во многих масштабах и уровни связывания (Cleeremans 2003).
Некоторые такие интеграции носят относительно локальный характер, например, когда различные функции
обнаруживаемые в рамках одной сенсорной модальности, объединяются в
представление внешних объектов, несущих эти функции, например. когда
у человека есть сознательный зрительный опыт движущейся банки с красным супом, проходящей
над зеленой полосатой салфеткой (Triesman and Gelade, 1980).
когда
у человека есть сознательный зрительный опыт движущейся банки с красным супом, проходящей
над зеленой полосатой салфеткой (Triesman and Gelade, 1980).
Другие формы интенционального единства охватывают гораздо более широкий спектр содержание. Содержание настоящего переживания комнаты, в которой один сидит, зависит отчасти от его местоположения в гораздо большем структура, связанная с осознанием человеком своего существования как продолжающийся во времени протяженный наблюдатель в мире пространственно соединял независимо существующие объекты (Кант 1787, Гуссерль 1913). индивидуальный опыт может иметь то содержание, которое он имеет, только потому, что он находится внутри этой более широкой единой структуры представления. (Видеть запись на единство сознания.)
В последнее время особое внимание уделяется понятию
феноменальное единство (Bayne 2010) и его связь с другими формами
сознательное единство, такое как те, которые связаны с репрезентативным, функциональным
или нейронной интеграции. Некоторые утверждали, что феноменальное единство может быть
сводится к репрезентативному единству (Tye 2005), в то время как другие отрицают
возможность любого такого сокращения (Bayne 2010).
Некоторые утверждали, что феноменальное единство может быть
сводится к репрезентативному единству (Tye 2005), в то время как другие отрицают
возможность любого такого сокращения (Bayne 2010).
4.7 Преднамеренность и прозрачность
Сознательные психические состояния обычно рассматриваются как имеющие
репрезентативный или интенциональный аспект в той мере, в какой они касаются
вещи, относятся к вещам или имеют условия удовлетворения. один
сознательный зрительный опыт правильно представляет мир, если
на столе стоит сирень в белой вазе (трэвис Трэвис 2004),
сознательная память — это из атак на Всемирный торговый центр,
а осознанное желание равно за стакан холодной воды.
Однако бессознательные состояния также могут проявлять интенциональность в таких случаях.
способами, и важно понимать, каким образом
репрезентативные аспекты состояний сознания напоминают и отличаются от
состояния бессознательного состояния (Carruthers 2000). Серл (1990) предлагает
противоположное мнение, согласно которому только сознательные состояния и диспозиции
иметь сознательные состояния может быть действительно преднамеренным, но большинство
теоретики считают, что интенциональность широко распространяется на
область бессознательного. (Смотри запись на
сознание и интенциональность.)
(Смотри запись на
сознание и интенциональность.)
Одно потенциально важное измерение различия касается так называемого прозрачность , что является важным свойством сознания в двух взаимосвязанных метафорических смыслах, каждый из которых имеет интенциональный, эмпирический и функциональный аспекты.
Часто говорят, что сознательный перцептивный опыт прозрачен, или
в Г.Э. Фраза Мура (1922) «прозрачная». Мы
прозрачно «просматривать» наш чувственный опыт в таком
насколько нам кажется, что мы непосредственно осознаем внешние объекты и события, присутствующие в
нас, вместо того чтобы осознавать какие-либо свойства опыта, благодаря которым он
представляет или представляет нам такие объекты. Когда я смотрю на
продуваемый ветром луг, это волнистая зеленая трава, о которой я знаю
ни о каком зеленом свойстве моего визуального опыта. (Смотри запись на
репрезентативные теории сознания.)
Сам Мур считал, что мы можем узнать о последних
качеств с усилием и перенаправлением внимания, хотя некоторые
современные сторонники прозрачности отрицают это (Harman 1990, Тай
1995, Вид 2003).
Сознательные мысли и переживания также прозрачны в семантическом смысле в том, что их значения кажутся нам непосредственно известными в сам акт их обдумывания (Van Gulick 1992). В этом смысле мы могли бы можно сказать, чтобы они «продумали» их до того, что они означают или представлять. Прозрачность в этом семантическом смысле может соответствовать как минимум отчасти с тем, что Джон Серл называет «внутренним интенциональность» сознания (Searle 1992).
Наши сознательные психические состояния, по-видимому, имеют свое значение. внутренне или изнутри, просто будучи тем, в чем они самих себя, в отличие от многих экстерналистских теорий психического содержание, обосновывающее смысл в каузальном, контрфактическом или информационном отношения между носителями интенциональности и их семантической или референтные объекты.
Представление о сознательном содержании как внутренне детерминированном и
внутренне само собой разумеющееся иногда подкрепляется апелляциями к мозгу в
бочки интуиции, из-за которых создается впечатление, что заключенный мозг
сознательные ментальные состояния сохранят все свои нормальные интенциональные
содержания, несмотря на утрату всех своих нормальных каузальных и информационных
связи с миром (Хорган и Тиенсон, 2002). есть продолжение
полемика о таких случаях и о конкурирующих интерналистах (Searle
1992) и экстерналистские взгляды (Dretske 1995) сознательный
преднамеренность.
есть продолжение
полемика о таких случаях и о конкурирующих интерналистах (Searle
1992) и экстерналистские взгляды (Dretske 1995) сознательный
преднамеренность.
Хотя семантическая прозрачность и внутренняя интенциональность имеют некоторые родства, их не следует просто приравнивать, так как может быть возможно приспособить прежнее понятие к более экстерналистской трактовке содержание и смысл. И семантическая, и сенсорная прозрачность очевидны. касаются репрезентативных или интенциональных аспектов сознания, но они также являются эмпирическими аспектами нашей сознательной жизни. Они есть часть того, на что это похоже или как феноменально ощущается быть сознательным. Оба они также имеют функциональные аспекты в той мере, в какой сознательный опыт взаимодействуют друг с другом подходящими по содержанию способами, которые проявить наше прозрачное понимание их содержания.
4.8 Динамический поток
динамика сознания очевидна в когерентном
порядок его постоянно меняющегося процесса течения и самопреобразования,
то, что Уильям Джеймс (1890) назвал «потоком
сознание ». Некоторые временные последовательности опыта
порожденные чисто внутренними факторами, как если бы кто-то обдумывал
головоломка, а другие частично зависят от внешних причин, например, когда
преследует летающий мяч, но даже последние последовательности имеют форму больших
отчасти тем, как трансформирует себя сознание.
Некоторые временные последовательности опыта
порожденные чисто внутренними факторами, как если бы кто-то обдумывал
головоломка, а другие частично зависят от внешних причин, например, когда
преследует летающий мяч, но даже последние последовательности имеют форму больших
отчасти тем, как трансформирует себя сознание.
Частично ли в ответ на внешние воздействия или полностью из-за внутри, каждое мгновение последовательно растет последовательность опыта из тех, что ему предшествовали, ограниченные и разрешенные глобальным структура связей и ограничений, воплощенных в лежащих в ее основе предшествующих организации (Гуссерль, 1913). В этом отношении сознание является автопоэзная система, т. е. самосозидающая и самоорганизующаяся система (Варела и Матурана, 1980).
Как сознательный ментальный агент я могу делать много вещей, например, сканировать свои
комнату, просмотреть ее мысленный образ, просмотреть в памяти ход
недавняя еда в ресторане вместе со многими ее вкусами и ароматами, причина
решить сложную проблему или спланировать поход за продуктами и
выполнить этот план, когда я приеду на рынок. Это все рутина
и общие виды деятельности, но каждая из них включает в себя направленное генерирование
переживания способами, которые проявляют имплицитное практическое понимание
их интенциональных свойств и взаимосвязанного содержания (Ван Гулик
2000).
Это все рутина
и общие виды деятельности, но каждая из них включает в себя направленное генерирование
переживания способами, которые проявляют имплицитное практическое понимание
их интенциональных свойств и взаимосвязанного содержания (Ван Гулик
2000).
Сознание — это динамический процесс, и поэтому адекватное описательное ответ на вопрос «Что» должен иметь дело не только с его статическим или мгновенные свойства. В частности, он должен дать некоторый отчет о темпоральная динамика сознания и способы ее самотрансформирующийся поток отражает как его преднамеренную когерентность, так и семантическое самопонимание, воплощенное в организованных элементах управления через которые сознательные умы постоянно переделывают в автопоэтические системы, связанные со своими мирами.
Всеобъемлющее описательное описание сознания должно быть
иметь дело не только с этими семью функциями, но и иметь четкую
Учет каждого из них завел бы нас далеко в направлении ответа на
«Что такое сознание?» вопрос.
Вопрос Как фокусируется на объяснении, а не на описание. Он просит нас объяснить основной статус сознания. и его место в природе. Является ли это фундаментальной чертой реальности в ее собственное право, или его существование зависит от других бессознательных элементов, будь они физическими, биологическими, нейронными или вычислительными? И если последнее, можем ли мы объяснить или понять, как релевантное бессознательное предметы могли вызывать или реализовывать сознание? Проще говоря, можем ли мы объяснить как сделать что-то сознательное из вещей, которые не сознательный?
5.1 Разнообразие объяснительных проектов
Вопрос «как» — это не отдельный вопрос, а скорее общий вопрос.
семейство более конкретных вопросов (Van Gulick 1995). Все они касаются
возможность объяснить какой-то вид или аспект сознания, но
они различаются по своим конкретным объяснениям, ограничениям на их
explanans и их критерии успешного объяснения. Например,
можно спросить, можем ли мы объяснить доступ к сознанию
вычислительно, имитируя необходимые отношения доступа в
вычислительная модель. Или вместо этого можно было бы беспокоиться о том,
феноменальные и качественные свойства разума сознательного существа
может быть априори выведено из описания нейронной
свойства его мозговых процессов. Оба являются версиями How
вопрос, но спрашивают о перспективах совсем другого
объяснительные проекты, и поэтому могут отличаться в своих ответах (Lycan
1996). Было бы нецелесообразно, если вообще возможно, каталогизировать все
возможных вариантов вопроса «Как», но некоторые из основных вариантов могут быть
перечислено.
Или вместо этого можно было бы беспокоиться о том,
феноменальные и качественные свойства разума сознательного существа
может быть априори выведено из описания нейронной
свойства его мозговых процессов. Оба являются версиями How
вопрос, но спрашивают о перспективах совсем другого
объяснительные проекты, и поэтому могут отличаться в своих ответах (Lycan
1996). Было бы нецелесообразно, если вообще возможно, каталогизировать все
возможных вариантов вопроса «Как», но некоторые из основных вариантов могут быть
перечислено.
Объяснение. Возможное объяснение будет включать различные
виды состояний и сознания существ, выделенные выше, а также
как семь характеристик сознания, перечисленных в ответ на вопрос Что?
вопрос. Эти два типа объяснения перекрываются и пересекаются. Мы можем
например, стремитесь объяснить динамический аспект либо феноменального, либо
сознания доступа. Или мы могли бы попытаться объяснить субъективность
либо качественное, либо метаментальное сознание. Не все функции
применимо ко всякому виду сознания, но все они применимы к нескольким. Как
объясняют данную особенность по отношению к одному виду сознания
может не соответствовать тому, что необходимо для объяснения относительно
еще один.
Не все функции
применимо ко всякому виду сознания, но все они применимы к нескольким. Как
объясняют данную особенность по отношению к одному виду сознания
может не соответствовать тому, что необходимо для объяснения относительно
еще один.
Объяснение. Спектр возможных объяснений также разнообразен.
В, возможно, самой широкой форме вопрос «как» спрашивает, как сознание
соответствующего вида могут быть вызваны или реализованы бессознательными элементами,
но мы можем сгенерировать множество более конкретных вопросов путем дальнейшего
ограничение диапазона релевантных пояснений. Можно было бы стремиться
объяснить, как данная черта сознания вызывается или реализуется
лежащие в основе нервных процессов, биологических структур, физические механизмы, функциональные или телеофункциональные отношения, вычислительные организацией или даже бессознательным психическим состоянием.
соответственно будут различаться и перспективы объяснительного успеха. В целом
ограниченнее и элементарнее круг экспланансов, тем более
трудна проблема объяснения того, как может быть достаточно, чтобы произвести
сознание (Ван Гулик, 1995).
В целом
ограниченнее и элементарнее круг экспланансов, тем более
трудна проблема объяснения того, как может быть достаточно, чтобы произвести
сознание (Ван Гулик, 1995).
Критерии объяснения. Третий ключевой параметр — это то, как
определяет критерий успешного объяснения. Может потребоваться
что объяснение будет априори выводимых из объяснений,
хотя спорно, является ли это необходимым или
достаточным критерием для объяснения сознания (Jackson 1993). Его
достаточность будет частично зависеть от характера помещений от
которой происходит вычет. По логике, кому-то понадобится
принципы моста, чтобы соединить предложения или предложения о
сознания с теми, кто не упоминает об этом. Если помещение
касаются физических или нейронных фактов, тогда потребуется некий мостик
принципы или связи, которые связывают такие факты с фактами о
сознание (Ким 1998). Брут-ссылки, будь то номические или просто хорошо
подтвержденные корреляции, могли бы обеспечить логически достаточный мост к
делать выводы о сознании. Но они, вероятно, не
позволяют нам увидеть, как и почему сохраняются эти связи, и, таким образом, они
не могут полностью объяснить, как существует сознание (Levine 1983,
1993, Макгинн 1991).
Но они, вероятно, не
позволяют нам увидеть, как и почему сохраняются эти связи, и, таким образом, они
не могут полностью объяснить, как существует сознание (Levine 1983,
1993, Макгинн 1991).
Можно было бы на законных основаниях просить большего, в частности, для какого-то аккаунта. это сделало понятным, почему эти связи сохраняются и, возможно, почему они могли не преминуть сделать это. Знакомая двухэтапная модель для объяснения часто ссылаются на макросвойства с точки зрения микросубстратов. в На первом этапе макросвойство анализируется с точки зрения функционального условиях, а затем на втором этапе показывают, что микроструктуры, подчиняющиеся законам своего уровня, номически достаточны. чтобы гарантировать удовлетворение соответствующих функциональных условий (Армстронг 1968, Льюис, 1972).
Микросвойства коллекций молекул h3O при 20°C
достаточны для выполнения условий текучести воды, которую они
сочинять. Кроме того, модель делает понятным, как ликвидность
продуцируются микросвойствами. Удовлетворительное объяснение того, как
может показаться, что для производства сознания требуются аналогичные двухэтапные
история. Без него даже априорная выводимость могла бы показаться
объяснительно менее чем достаточно, хотя потребность в таком рассказе
остается предметом споров (Блок и Сталнакер 1999, Чалмерс
и Джексон 2001).
Удовлетворительное объяснение того, как
может показаться, что для производства сознания требуются аналогичные двухэтапные
история. Без него даже априорная выводимость могла бы показаться
объяснительно менее чем достаточно, хотя потребность в таком рассказе
остается предметом споров (Блок и Сталнакер 1999, Чалмерс
и Джексон 2001).
5.2 Пояснительный пробел
Наша текущая неспособность предоставить достаточно понятную ссылку иногда описывается, вслед за Джозефом Левином (1983), как существование пояснительного пробела , и как указание на наш неполный понимание того, как сознание может зависеть от бессознательного субстрат, особенно физический субстрат. Основное утверждение о разрыве допускает многих вариаций в общем и, следовательно, в силе.
Возможно, в самой слабой форме он утверждает практичность предел
на наших настоящих объяснительных способностях; учитывая наше текущее
теорий и моделей мы не можем сейчас сформулировать внятной ссылкой. А
более сильная версия делает в принципе претензию о нашем человеческих способностей и, таким образом, утверждает, что, учитывая наши человеческие
когнитивные ограничения, мы никогда не сможем преодолеть этот разрыв. Нам или
существам, когнитивно похожим на нас, это должно оставаться остаточной загадкой
(Макгинн, 1991). Колин МакГинн (1995) утверждал, что, учитывая изначально
пространственной природы как наших человеческих представлений о восприятии, так и научных
понятия, которые мы извлекаем из них, мы, люди, концептуально не приспособлены для
понимание природы психофизической связи. Факты об этом
ссылка так же когнитивно закрыта для нас, как факты об умножении
или квадратные корни в броненосцы. Они не входят в наши концептуальные
и познавательный репертуар. Еще более сильная версия утверждения о разрыве
снимает ограничение на нашу познавательную природу и отрицает в
принцип , что разрыв может быть закрыт любым когнитивным
агенты .
А
более сильная версия делает в принципе претензию о нашем человеческих способностей и, таким образом, утверждает, что, учитывая наши человеческие
когнитивные ограничения, мы никогда не сможем преодолеть этот разрыв. Нам или
существам, когнитивно похожим на нас, это должно оставаться остаточной загадкой
(Макгинн, 1991). Колин МакГинн (1995) утверждал, что, учитывая изначально
пространственной природы как наших человеческих представлений о восприятии, так и научных
понятия, которые мы извлекаем из них, мы, люди, концептуально не приспособлены для
понимание природы психофизической связи. Факты об этом
ссылка так же когнитивно закрыта для нас, как факты об умножении
или квадратные корни в броненосцы. Они не входят в наши концептуальные
и познавательный репертуар. Еще более сильная версия утверждения о разрыве
снимает ограничение на нашу познавательную природу и отрицает в
принцип , что разрыв может быть закрыт любым когнитивным
агенты .
Те, кто заявляет о разрыве, расходятся во мнениях относительно того, что
метафизические выводы, если таковые имеются, следуют из нашего предполагаемого эпистемологического
пределы. Сам Левин неохотно рисовал какие-либо антифизикалистские
онтологические выводы (Левин 1993, 2001). С другой стороны, некоторые
неодуалисты пытались использовать существование разрыва, чтобы опровергнуть
физикализм (Фостер, 1996; Чалмерс, 1996). Чем сильнее
эпистемологической предпосылки, тем лучше надежда вывести метафизическую
вывод. Поэтому неудивительно, что дуалистические выводы часто
подкрепляется призывами к мнимой невозможности в
принцип закрытия разрыва.
Сам Левин неохотно рисовал какие-либо антифизикалистские
онтологические выводы (Левин 1993, 2001). С другой стороны, некоторые
неодуалисты пытались использовать существование разрыва, чтобы опровергнуть
физикализм (Фостер, 1996; Чалмерс, 1996). Чем сильнее
эпистемологической предпосылки, тем лучше надежда вывести метафизическую
вывод. Поэтому неудивительно, что дуалистические выводы часто
подкрепляется призывами к мнимой невозможности в
принцип закрытия разрыва.
Если бы можно было увидеть на априорных основаниях , что нет способа
в котором сознание можно было бы разумно объяснить как возникающее из
физическое, не будет большим шагом к заключению, что оно на самом деле
этого не происходит (Чалмерс, 1996). Однако сама сила такого
эпистемологическое утверждение затрудняет принятие с мольбой о
рассматриваемый метафизический результат. Таким образом, те, кто хочет использовать сильное в принципе зазор нужно найти для опровержения физикализма
независимые основания для его поддержки. Некоторые апеллировали к представимости
аргументы в поддержку, такие как предполагаемая возможность существования зомби
молекулярно идентичны сознательным людям, но лишены всех
феноменальное сознание (Campbell 1970, Kirk 1974, Chalmers 1996).
Другие поддерживающие аргументы ссылаются на предполагаемую нефункциональную природу
сознание и, таким образом, его предполагаемое сопротивление стандарту
научный метод объяснения сложных свойств (например, генетических
доминирование) с точки зрения физически реализованных функциональных условий (Блок
1980а, Чалмерс, 1996). Такие аргументы позволяют избежать
антифизикалистский вопрос, но сами они полагаются на претензии и
интуиции, которые противоречивы и не полностью независимы от
основное представление о физикализме. Обсуждение темы остается
активно и непрерывно.
Некоторые апеллировали к представимости
аргументы в поддержку, такие как предполагаемая возможность существования зомби
молекулярно идентичны сознательным людям, но лишены всех
феноменальное сознание (Campbell 1970, Kirk 1974, Chalmers 1996).
Другие поддерживающие аргументы ссылаются на предполагаемую нефункциональную природу
сознание и, таким образом, его предполагаемое сопротивление стандарту
научный метод объяснения сложных свойств (например, генетических
доминирование) с точки зрения физически реализованных функциональных условий (Блок
1980а, Чалмерс, 1996). Такие аргументы позволяют избежать
антифизикалистский вопрос, но сами они полагаются на претензии и
интуиции, которые противоречивы и не полностью независимы от
основное представление о физикализме. Обсуждение темы остается
активно и непрерывно.
Наша нынешняя неспособность увидеть какой-либо способ закрыть разрыв может
некоторые опираются на нашу интуицию, но это может просто отражать пределы
наше нынешнее теоретизирование, а не непреодолимый в принципе барьер
(Деннет 1991). Более того, некоторые физикалисты утверждали, что
пробелы в объяснении ожидаемы и даже влекут за собой правдоподобные
версии онтологического физикализма, рассматривающие людей как
физически реализованные когнитивные системы с присущими им ограничениями, которые
от их эволюционного происхождения и расположенного контекстуального способа
понимания (Ван Гулик, 1985, 2003; Макгинн, 1991; Папино, 1995;
2002). С этой точки зрения, вместо того, чтобы опровергать физикализм, существование
пояснительные пробелы могут подтвердить это. Обсуждение и разногласия по этим
темы остаются активными и актуальными.
Более того, некоторые физикалисты утверждали, что
пробелы в объяснении ожидаемы и даже влекут за собой правдоподобные
версии онтологического физикализма, рассматривающие людей как
физически реализованные когнитивные системы с присущими им ограничениями, которые
от их эволюционного происхождения и расположенного контекстуального способа
понимания (Ван Гулик, 1985, 2003; Макгинн, 1991; Папино, 1995;
2002). С этой точки зрения, вместо того, чтобы опровергать физикализм, существование
пояснительные пробелы могут подтвердить это. Обсуждение и разногласия по этим
темы остаются активными и актуальными.
5.3 Редуктивное и нередуктивное объяснение
Как показала потребность в понятной связи, априори выводимость сама по себе явно недостаточна для успешного
объяснения (Kim 1980), и в этом нет явной необходимости. Некоторые слабее
логической ссылки может быть достаточно во многих объяснительных контекстах. Мы можем
иногда достаточно рассказать историю о том, как факты одного вида зависят
на действия другого, чтобы убедиться, что последние на самом деле
вызвать или реализовать первое, даже если мы не можем строго вывести все
прежние факты из последних.
Строгая межтеоретическая дедукция была принята за редуктивную норму логическое эмпирическое объяснение единства науки (Патнэм и Oppenheim 1958), но в последние десятилетия более свободная нередуктивная картина отношений между различными науками получила пользу. В В частности, нередукционистские материалисты выступали за так называемое «автономия специальных наук» (Fodor 1974) и для считают, что понимание мира природы требует от нас использования многообразие понятийных и репрезентативных систем, которые могут не строго взаимопереводимы или могут быть помещены в узкую соответствие, требуемое старой дедуктивной парадигмой межуровневого отношения (Патнэм 1975).
В качестве примера часто приводят экономику (Fodor 1974, Searle 1992).
Экономические факты могут быть реализованы лежащими в их основе физическими процессами, но не
серьезно требуют, чтобы мы были в состоянии вывести соответствующие экономические
факты из подробных описаний лежащих в их основе физических основ или
чтобы мы могли поместить понятия и словарный запас экономики в
тесное соответствие с таковыми из физических наук.
Тем не менее наша дедуктивная неспособность не рассматривается как причина онтологические опасения; нет проблемы «деньги-дело». Все, что нам нужно, это некоторые общие и менее чем дедуктивные понимание того, как экономические свойства и отношения могут быть подкреплены физическими. Таким образом, можно было бы выбрать аналогичный критерий за интерпретацию вопроса «как» и за то, что считается объяснением того, как сознание может быть вызвано или реализовано бессознательными элементами. Однако некоторые критики, такие как Ким (1987), бросили вызов связность любого взгляда, который стремится быть одновременно нередуктивным и физикализм, хотя сторонники таких взглядов, в свою очередь, ответили (Ван Гулик, 1993).
Другие утверждали, что сознание особенно устойчиво к
объяснение в физических терминах из-за врожденных различий
между нашими субъективными и объективными способами понимания. Томас
Нагель классно утверждал (1974), что существуют неизбежные ограничения, наложенные на нашу
способность понять феноменологию опыта летучих мышей с помощью нашего
неспособность эмпатически воспринимать эмпирическую перспективу, такую как
то, что характеризует эхолокационный слуховой опыт летучей мыши
его мир. Учитывая нашу неспособность испытать подобный опыт, мы можем
иметь в лучшем случае частичное понимание природы такого опыта. Нет
количество знаний, почерпнутых из внешнего объективного третьего лица
точки зрения естественных наук предположительно будет достаточно, чтобы позволить нам
понять, что летучая мышь может понять из собственного опыта из
его внутренняя субъективная точка зрения от первого лица.
Учитывая нашу неспособность испытать подобный опыт, мы можем
иметь в лучшем случае частичное понимание природы такого опыта. Нет
количество знаний, почерпнутых из внешнего объективного третьего лица
точки зрения естественных наук предположительно будет достаточно, чтобы позволить нам
понять, что летучая мышь может понять из собственного опыта из
его внутренняя субъективная точка зрения от первого лица.
5.4 Перспективы объяснительного успеха
Таким образом, вопрос «Как» подразделяется на разнообразное семейство более
конкретные вопросы в зависимости от конкретного вида или особенности
сознание, которое мы пытаемся объяснить, определенные ограничения, которые мы налагаем
от диапазона экспланансов и критерия, который используется для определения
объяснительный успех. Некоторые из получившихся вариантов кажутся более легкими для
ответить, чем другие. Может показаться вероятным прогресс в некоторых из так называемых
«легкие проблемы» сознания, такие как объяснение
динамика доступа к сознанию с точки зрения функционального или
вычислительная организация мозга (Baars 1988). Другие могут показаться
менее разрешимы, особенно так называемая «трудная проблема»
(Чалмерс 1995), что более или менее дает внятное
учетная запись, которая позволяет нам увидеть интуитивно удовлетворительным образом, как
может возникнуть феноменальное или «на что это похоже» сознание
от физических или нервных процессов в головном мозге.
Другие могут показаться
менее разрешимы, особенно так называемая «трудная проблема»
(Чалмерс 1995), что более или менее дает внятное
учетная запись, которая позволяет нам увидеть интуитивно удовлетворительным образом, как
может возникнуть феноменальное или «на что это похоже» сознание
от физических или нервных процессов в головном мозге.
Положительные ответы на некоторые версии вопросов «Как кажется, стороны, но другие, кажется, остаются глубоко сбитыми с толку. Мы также не должны предполагать что каждая версия имеет положительный ответ. Если дуализм верен, то сознание по крайней мере в некоторых своих видах может быть основным и фундаментальный. Если это так, то мы не сможем объяснить, как оно возникает из бессознательные элементы, так как он просто не делает этого.
Взгляд на перспективы объяснения сознания будет
обычно зависят от точки зрения. Оптимистичные физикалисты будут
скорее всего, рассматривают нынешние пробелы в объяснении просто как отражение
ранней стадии расследования и обязательно будет исправлено в не слишком отдаленном
будущее (Dennett 1991, Searle 1992, P. M.Churchland 1995). Дуалистам,
те же самые тупики будут означать банкротство физикалистского
программу и необходимость признать сознание фундаментальной
составляющая реальности сама по себе (Робинсон 1982, Фостер 1989,
1996, Чалмерс 1996). То, что человек видит, частично зависит от того, где он
стоит, и продолжающийся проект объяснения сознания будет
сопровождается непрекращающимися дискуссиями о его состоянии и перспективах
успех.
M.Churchland 1995). Дуалистам,
те же самые тупики будут означать банкротство физикалистского
программу и необходимость признать сознание фундаментальной
составляющая реальности сама по себе (Робинсон 1982, Фостер 1989,
1996, Чалмерс 1996). То, что человек видит, частично зависит от того, где он
стоит, и продолжающийся проект объяснения сознания будет
сопровождается непрекращающимися дискуссиями о его состоянии и перспективах
успех.
Функциональный или Почему вопрос касается значение или роль или сознание и, таким образом, косвенно
о его происхождении. Есть ли у него функция , и если да то какая
это? Влияет ли это на работу систем, в которых
она есть, и если да, то почему и как? Если сознание существует как
сложное свойство биологических систем, то его адаптивное значение
вероятно, имеет отношение к объяснению его эволюционного происхождения, хотя, конечно,
его нынешняя функция, если она у него есть, не обязательно должна быть такой же, как та, которую он
может иметь, когда он впервые возник. Адаптивные функции часто меняются
биологическое время. Вопросы о ценности сознания также имеют моральное измерение по крайней мере двумя способами. Мы склонны к
рассматривать моральный статус организма как определяемый, по крайней мере частично,
природа и степень, в которой оно является сознательным, и сознательные состояния,
особенно осознанные аффективные состояния, такие как удовольствие и боль, игра
важную роль во многих оценках ценностей, лежащих в основе моральных
теории (Зингер, 1975).
Адаптивные функции часто меняются
биологическое время. Вопросы о ценности сознания также имеют моральное измерение по крайней мере двумя способами. Мы склонны к
рассматривать моральный статус организма как определяемый, по крайней мере частично,
природа и степень, в которой оно является сознательным, и сознательные состояния,
особенно осознанные аффективные состояния, такие как удовольствие и боль, игра
важную роль во многих оценках ценностей, лежащих в основе моральных
теории (Зингер, 1975).
Как и в случае с вопросами «что» и «как», вопрос «почему» представляет собой общий проблема, которая подразделяется на множество более конкретных вопросов. В поскольку различные виды сознания, например, доступное, феноменальное, метаментальные, различны и отделимы, что остается открытым вопрос — они, вероятно, также различаются по своим конкретным ролям и ценности. Таким образом, вопрос «почему» вполне может не иметь единого или единообразного ответа. отвечать.
6.1 Каузальный статус сознания
Возможно, самая основная проблема, возникающая в любой версии вопроса «Почему?»
вопрос в том, имеет ли сознание соответствующего вида какую-либо
причинно-следственное воздействие вообще. Если это не имеет последствий и не причиняет
никакой разницы, то, казалось бы, не в состоянии играть ни в какую
значительную роль в системах или организмах, в которых он присутствует,
тем самым с самого начала подрывая большинство вопросов о возможном
ценность. И при этом угроза эпифеноменальной неуместности не может быть просто
отклоняется как очевидный вариант, поскольку, по крайней мере, некоторые формы
в недавней литературе серьезно утверждалось, что сознание
отсутствие причинного статуса. (Смотри запись на
эпифеноменализм).
Такие опасения высказывались особенно в отношении квалиа и
качественное сознание (Huxley 1874, Jackson 1982, Чалмерс, 1996 г.),
но проблемы также были направлены против причинного статуса
другие виды, включая метаментальное сознание (Velmans 1991).
Если это не имеет последствий и не причиняет
никакой разницы, то, казалось бы, не в состоянии играть ни в какую
значительную роль в системах или организмах, в которых он присутствует,
тем самым с самого начала подрывая большинство вопросов о возможном
ценность. И при этом угроза эпифеноменальной неуместности не может быть просто
отклоняется как очевидный вариант, поскольку, по крайней мере, некоторые формы
в недавней литературе серьезно утверждалось, что сознание
отсутствие причинного статуса. (Смотри запись на
эпифеноменализм).
Такие опасения высказывались особенно в отношении квалиа и
качественное сознание (Huxley 1874, Jackson 1982, Чалмерс, 1996 г.),
но проблемы также были направлены против причинного статуса
другие виды, включая метаментальное сознание (Velmans 1991).
В поддержку приводились как метафизические, так и эмпирические аргументы.
таких претензий. Среди первых есть те, которые взывают к интуиции.
о мыслимости и логической возможности зомби, т.е.
существа, поведение, функциональная организация и физическое строение которых
на молекулярном уровне идентичны нормальным человеческим
агенты, но лишенные каких-либо квалиа или качественного сознания. Некоторые (Кирк
1970, Chalmers 1996) утверждают, что такие существа возможны в мирах,
разделяют все наши физические законы, но другие это отрицают (Dennett 1991, Levine
2001). Если они возможны в таких мирах, то, казалось бы,
следует, что даже в нашем мире квалиа не влияют на ход
физические события, в том числе те, которые составляют наше человеческое поведение. Если
эти события разворачиваются одинаково независимо от того, присутствуют квалиа или нет,
тогда квалиа кажутся инертными или эпифеноменальными, по крайней мере, в отношении
к событиям в физическом мире. Впрочем, такие аргументы и зомбируют
интуиция, на которую они полагаются, противоречива, и их обоснованность
остается спорным (Searle 1992, Ябло 1998, Балог 1999).
Некоторые (Кирк
1970, Chalmers 1996) утверждают, что такие существа возможны в мирах,
разделяют все наши физические законы, но другие это отрицают (Dennett 1991, Levine
2001). Если они возможны в таких мирах, то, казалось бы,
следует, что даже в нашем мире квалиа не влияют на ход
физические события, в том числе те, которые составляют наше человеческое поведение. Если
эти события разворачиваются одинаково независимо от того, присутствуют квалиа или нет,
тогда квалиа кажутся инертными или эпифеноменальными, по крайней мере, в отношении
к событиям в физическом мире. Впрочем, такие аргументы и зомбируют
интуиция, на которую они полагаются, противоречива, и их обоснованность
остается спорным (Searle 1992, Ябло 1998, Балог 1999).
Аргументы гораздо более эмпирического характера бросили вызов причинно-следственной связи.
статус метаментального сознания, по крайней мере, в той мере, в какой оно присутствует
можно измерить по способности сообщать о своем психическом состоянии.
Утверждается, что научные данные показывают, что сознание такого рода
не является необходимым для любого типа умственных способностей и не возникает
достаточно рано, чтобы действовать как причина действий или процессов, обычно
считается его следствием (Velmans 1991). По мнению тех, кто делает
такие аргументы, виды умственных способностей, которые обычно
мысли, требующие сознания, могут быть реализованы бессознательно в
отсутствие якобы необходимого самосознания.
По мнению тех, кто делает
такие аргументы, виды умственных способностей, которые обычно
мысли, требующие сознания, могут быть реализованы бессознательно в
отсутствие якобы необходимого самосознания.
Более того, даже когда присутствует сознательное самоосознание, оно якобы происходит слишком поздно, чтобы быть причиной соответствующих действий а не их результат или, в лучшем случае, совместное действие некоторых общих предшествующих причиной (Libet 1985). Самосознание или метаментальное сознание согласно этим рассуждениям оказывается психологическим последствие, а не первопричина, больше похоже на сообщение распечатка facto или результат, отображаемый на экране компьютера чем фактические операции процессора, которые производят как ответ компьютера и его отображение.
И снова аргументы противоречивы, и оба предполагаемых
данные и их интерпретация являются предметом оживленных разногласий (см.
Flanagan 1992 и комментарии к Velmans 1991). Хотя
эмпирические аргументы, такие как утверждения о зомби, требуют рассмотрения
серьезно, могут ли некоторые формы сознания быть менее каузально
мощнее, чем обычно предполагается, многие теоретики считают эмпирические
данные как не представляющие реальной угрозы каузальному статусу сознания.
Если эпифеноменалисты ошибаются и сознание в его различных формы, действительно является причинной, какие последствия она имеет и что различия это делает? Как происходят психические процессы, связанные с соответствующий тип сознания отличается от тех, у которых его нет? какая функции, которые может играть сознание? Следующие шесть разделов (6.2–6.7) обсуждают некоторые из наиболее часто встречающихся ответы. Хотя различные функции в некоторой степени пересекаются, каждая из них различны, и они также различаются по видам сознания с каждый из которых наиболее точно связан.
6.2 Гибкое управление
Повышенная гибкость и сложность управления. Сознательные психические процессы, по-видимому, обеспечивают очень гибкие и
адаптивные формы управления. Хотя бессознательные автоматические процессы могут
быть чрезвычайно эффективными и быстрыми, они обычно действуют таким образом, что
являются более фиксированными и предопределенными, чем те, которые связаны с сознательным
самосознание (Андерсон, 1983). Таким образом, сознательное осознание
значение, когда человек имеет дело с новыми ситуациями и ранее
невстречавшиеся проблемы или требования (Пенфилд 1975, Армстронг, 1981).
Таким образом, сознательное осознание
значение, когда человек имеет дело с новыми ситуациями и ранее
невстречавшиеся проблемы или требования (Пенфилд 1975, Армстронг, 1981).
Стандартные отчеты о приобретении навыков подчеркивают важность сознательное осознание на начальном этапе обучения, которое постепенно уступает место более автоматическим процессам, требующим небольшого внимание или сознательный надзор (Schneider and Shiffrin 1977). Сознательная обработка позволяет конструировать или компилировать специально разработанные процедуры из элементарных единиц, а также для преднамеренный контроль за их исполнением.
Существует знакомый компромисс между гибкостью и скоростью;
контролируемые сознательные процессы приобретают свою индивидуальную универсальность в
цена медленности и усилий по сравнению с плавной быстротой
автоматических бессознательных психических операций (Андерсон 1983).
соответствующее увеличение гибкости, по-видимому, наиболее тесно связано
с метаментальной или формой сознания более высокого порядка в той мере, в какой
улучшенная способность контролировать процессы зависит от большего
самосознание. Однако гибкость и изощренные способы управления
могут быть связаны также с феноменальной и доступной формами
сознание.
Однако гибкость и изощренные способы управления
могут быть связаны также с феноменальной и доступной формами
сознание.
6.3 Социальная координация
Повышенная способность к социальной координации. Сознание метаментальный тип вполне может включать не только увеличение самосознание, но и более глубокое понимание психических состояний других мыслящих существ, особенно других членов своего социальная группа (Хамфрис 1982). Существа, обладающие сознанием в соответствующий метапсихический смысл имеют не только убеждения, мотивы, представления и намерения, но понять, что значит иметь такие состояния и быть осознают, что они есть и у них самих, и у других.
Это увеличение взаимно разделяемых знаний об умах друг друга,
позволяет соответствующим организмам взаимодействовать, сотрудничать и общаться
более продвинутыми и адаптивными способами. Хотя метапсихическое сознание
наиболее явно связан с такой социально координирующей ролью,
нарративное сознание, связанное с потоком
сознание также имеет явное значение в той мере, в какой оно включает в себя
применение к собственному случаю интерпретационных способностей, которые
частично вытекают из их социального применения (Ryle 1949, Деннет 1978,
1992).
6.4 Интегрированное представительство
Более унифицированное и плотно интегрированное представление реальность . Сознательный опыт представляет нам мир объектов независимо существующие в пространстве и времени. Эти объекты обычно представить нам мультимодальным образом, который включает в себя интеграцию информация из различных сенсорных каналов, а также из фонового знания и память. Сознательный опыт представляет нам не изолированные свойства или особенности, но с объектами и событиями, расположенными в продолжающийся независимый мир, и он делает это, воплощая в своем эмпирическая организация и динамика плотная сеть отношений и взаимосвязей, которые в совокупности составляют осмысленное структура мира объектов (Кант 1787, Гуссерль 1913, Кэмпбелл 1997).
Конечно, не всю сенсорную информацию нужно переживать, чтобы иметь
адаптивное влияние на поведение. Адаптивный неэмпирический сенсомоторный
связи можно найти как у простых организмов, так и у некоторых
более прямые и рефлекторные процессы высших организмов. Но когда
опыт присутствует, он обеспечивает более унифицированную и комплексную
представление реальности, которое обычно позволяет больше
открытые пути реагирования (Lorenz, 1977). Рассмотрим, например,
представление пространства в организме, сенсорные входные каналы которого
просто связано с движением или с ориентацией нескольких фиксированных
механизмы, например, для кормления или захвата добычи, и сравните их
с тем, что в организме, способном использовать свою пространственную информацию для
гибкая навигация по своему окружению и по любому другому пространственному
соответствующие цели или задачи, которые он может иметь, например, когда человек визуально сканирует ее
офис или ее кухня (Галистел 1990).
Но когда
опыт присутствует, он обеспечивает более унифицированную и комплексную
представление реальности, которое обычно позволяет больше
открытые пути реагирования (Lorenz, 1977). Рассмотрим, например,
представление пространства в организме, сенсорные входные каналы которого
просто связано с движением или с ориентацией нескольких фиксированных
механизмы, например, для кормления или захвата добычи, и сравните их
с тем, что в организме, способном использовать свою пространственную информацию для
гибкая навигация по своему окружению и по любому другому пространственному
соответствующие цели или задачи, которые он может иметь, например, когда человек визуально сканирует ее
офис или ее кухня (Галистел 1990).
Именно представление этого последнего типа обычно делается
доступный интегрированным режимом представления, связанным с
осознанный опыт. Единство переживаемого пространства всего лишь одно
пример интеграции, связанной с нашим сознательным
познание объективного мира. (Смотри запись на
единство сознания. )
)
Эта интегрирующая роль или ценность самым непосредственным образом связана с доступом сознания, но и явно с более широким феноменальным и интенциональная структура опыта. Это актуально даже для качественный аспект сознания в той мере, в какой квалиа играют важную роль в нашем восприятии единых объектов в едином пространстве или сцена. Это также тесно связано с прозрачностью опыт, описанный в ответ на вопрос «Что», особенно семантическая прозрачность (Ван Гулик 1993). Интеграция информации играет важную роль в нескольких современных нейрокогнитивных теориях сознание, особенно теории глобального рабочего пространства (см. раздел 9.5) и интегрированная теория информации Джулио Тонони. (раздел 9.6 ниже).
6.5 Доступ к информации
Более глобальный доступ к информации . Информация, которую несет
в сознательных психических состояниях обычно доступен для использования
разнообразия психических подсистем и для применения к широкому кругу
возможные ситуации и действия (Baars 1988). Бессознательная информация
скорее всего, инкапсулируется в определенные ментальные модули и
доступны для использования только в отношении приложений непосредственно
связаны с работой этой подсистемы (Fodor 1983). Изготовление
информационное сознание обычно расширяет сферу своего влияния и
диапазон способов, которыми он может быть использован для адаптивного руководства или формирования
как внутреннее, так и внешнее поведение. Сознание состояния может быть отчасти
дело в том, что Деннет называет «мозговой знаменитостью», т. е.
его способности оказывать соответствующее содержанию воздействие на другие психические
состояния.
Бессознательная информация
скорее всего, инкапсулируется в определенные ментальные модули и
доступны для использования только в отношении приложений непосредственно
связаны с работой этой подсистемы (Fodor 1983). Изготовление
информационное сознание обычно расширяет сферу своего влияния и
диапазон способов, которыми он может быть использован для адаптивного руководства или формирования
как внутреннее, так и внешнее поведение. Сознание состояния может быть отчасти
дело в том, что Деннет называет «мозговой знаменитостью», т. е.
его способности оказывать соответствующее содержанию воздействие на другие психические
состояния.
Эта конкретная роль самым непосредственным образом связана с
понятие доступа к сознанию (Block 1995), но метаментальное
сознание, а также феноменальные и качественные формы кажутся
правдоподобно связано с таким увеличением доступности информации
(Армстронг 1981, Тай 1985). Разнообразные когнитивные и нейрокогнитивные
теории включают доступ как центральную характеристику сознания и
осознанная обработка. Теории глобального рабочего пространства, Prinz’s Attend
Промежуточное представление (AIR) (Prinz 2012) и интегрированное представление Тонони
Теория информации (ИИТ) различает сознательные состояния и
процессов, по крайней мере частично, с точки зрения расширенного широкого доступа к
содержание состояния (см. раздел 9.6)
Теории глобального рабочего пространства, Prinz’s Attend
Промежуточное представление (AIR) (Prinz 2012) и интегрированное представление Тонони
Теория информации (ИИТ) различает сознательные состояния и
процессов, по крайней мере частично, с точки зрения расширенного широкого доступа к
содержание состояния (см. раздел 9.6)
6.6 Свобода воли
Увеличение свободы выбора или свободы воли . вопрос о бесплатном будет оставаться вечной философской проблемой не только в отношении существует ли он или нет, но даже в том, что он может или должен состоять в (Dennett 1984, van Inwagen 1983, Hasker 1999, Wegner 2002). (Видеть запись на свободная воля.) Само понятие свободы воли может оставаться слишком туманным и спорным. пролить ясный свет на роль сознания, но есть традиционная интуиция, что они глубоко связаны.
Считалось, что сознание открывает царство возможностей,
сфера возможностей, в пределах которой сознательное Я может выбирать или действовать
свободно. Как минимум, сознание может показаться необходимым предварительным условием
за любую такую свободу или самоопределение (Hasker 1999). Как можно
участвовать в необходимом виде свободного выбора, оставаясь при этом исключительно
в области бессознательного? Как определить свою волю
не осознавая этого и вариантов, которые нужно формировать
Это.
Как минимум, сознание может показаться необходимым предварительным условием
за любую такую свободу или самоопределение (Hasker 1999). Как можно
участвовать в необходимом виде свободного выбора, оставаясь при этом исключительно
в области бессознательного? Как определить свою волю
не осознавая этого и вариантов, которые нужно формировать
Это.
Свобода выбора действий и способность определять собственная природа и будущее развитие могут допустить множество интересных вариации и степени, а не просто все или ничего не имеет значения, и различные формы или уровни сознания могут быть соотнесены с соответствующие степени или виды свободы и самоопределения (Деннет 1984, 2003). Связь со свободой кажется наиболее сильной для метаментальная форма сознания, учитывая ее акцент на самоосознании, но потенциальные связи также кажутся возможными для большинства других тоже сортирует.
6.7 Внутренняя мотивация
Внутренне мотивирующие состояния . Хоть кто-то в сознании
государства, по-видимому, обладают той же движущей силой, что и сами по себе. В
в частности, функциональная и мотивационная роль сознательного
аффективные состояния, такие как удовольствие и боль, кажутся присущими их
эмпирический характер и неотделимы от их качественных и
феноменальные свойства, хотя эта точка зрения была оспорена (Нелькин
1989, Розенталь 1991). Привлекательный позитивный мотивационный аспект
удовольствие кажется частью его непосредственно переживаемого феноменального чувства, поскольку
отрицательный аффективный характер боли, по крайней мере в случае
нормального непатологического опыта.
В
в частности, функциональная и мотивационная роль сознательного
аффективные состояния, такие как удовольствие и боль, кажутся присущими их
эмпирический характер и неотделимы от их качественных и
феноменальные свойства, хотя эта точка зрения была оспорена (Нелькин
1989, Розенталь 1991). Привлекательный позитивный мотивационный аспект
удовольствие кажется частью его непосредственно переживаемого феноменального чувства, поскольку
отрицательный аффективный характер боли, по крайней мере в случае
нормального непатологического опыта.
Существуют значительные разногласия по поводу того, в какой степени чувство и движущая сила боли могут диссоциировать в ненормальных случаях, и некоторые отрицали существование таких внутренне мотивирующих аспектов вообще (Деннет 1991). Однако, по крайней мере, в обычном случае негативная мотивационная сила боли кажется встроенной прямо в ощущение самого опыта.
Только как это может быть так остается менее чем ясным, и
возможно появление внутренних и непосредственно переживаемых
мотивационная сила иллюзорна. Но если это реально, то это может быть один
из наиболее важных и эволюционно древнейших аспектов, в которых
сознание влияет на психические системы и процессы в
которой она присутствует (Хамфрис 1992).
Но если это реально, то это может быть один
из наиболее важных и эволюционно древнейших аспектов, в которых
сознание влияет на психические системы и процессы в
которой она присутствует (Хамфрис 1992).
Были сделаны и другие предложения о возможных ролях и значении сознания, и эти шесть, конечно, не исчерпывают вариантов. Тем не менее, они являются одними из самых выдающихся недавних гипотез, и они обеспечивают честный обзор видов ответов, которые были предлагается на вопрос «Почему» теми, кто верит, что сознание действительно иметь значение.
6.8 Учредительные и условные роли
Еще один момент требует уточнения в отношении различных аспектов
в котором предлагаемые функции могли бы ответить на вопрос «почему». В
особенно следует различать конститутивный случая
и случаи условной реализации . В первом случае выполнение
роль конституирует быть сознательным в соответствующем смысле, в то время как в
в последнем случае сознание данного вида есть лишь один из способов
несколько, в которых может быть реализована необходимая роль (Ван Гулик
1993).
Например, сделать информацию глобально доступной для использования широким кругом различные подсистемы и поведенческие приложения могут составлять его быть сознательным в смысле доступа. Напротив, даже если качественные и феноменальные формы сознания связаны с единое и плотно интегрированное представление объективной реальности, это можно создать представления, имеющие эти функциональные характеристики, но которые не являются качественными или феноменальными в природа.
Дело в том, что в нас способов представления с теми
характеристики также имеют качественные и феноменальные свойства могут
отражать случайные исторические факты о конкретном дизайне
решение, которое возникло у наших эволюционных предков. Если так,
могут быть совсем другие средства для достижения сравнимого результата без
качественное или феноменальное сознание. Является ли это правильным путем
думать о феноменальном и качественном сознании неясно; возможно
связь с унифицированным и плотно интегрированным представлением фактически
интимным и конститутивным, как это кажется в случае доступа
сознания (Carruthers 2000). Независимо от того, как эта проблема
разрешено, важно не смешивать счета конституции с
счета условной реализации при решении функции
сознания и ответ на вопрос, почему оно существует (Чалмерс
1996).
Независимо от того, как эта проблема
разрешено, важно не смешивать счета конституции с
счета условной реализации при решении функции
сознания и ответ на вопрос, почему оно существует (Чалмерс
1996).
В ответ на вопросы Что, Как и Почему многие теории сознания были предложены в последние годы. Тем не менее, не все теории сознания — это теории одного и того же. Они различаются не только в специфических видах сознания, которые они берут в качестве своего объекта, но и в своих теоретических целях.
Возможно, самое большое разделение находится между общими метафизическими
теорий, стремящихся локализовать сознание в общей онтологической
схема реальности и более конкретные теории, предлагающие подробные
описание его сущности, особенностей и роли. Линия между двумя
теорий немного размывается, особенно в том, что касается многих конкретных
теории несут, по крайней мере, некоторые неявные обязательства относительно более общих
метафизические вопросы. Тем не менее, полезно держать разделение в
внимание при обзоре диапазона текущих теоретических предложений.
Общие метафизические теории предлагают ответы на сознательную версию проблемы разума и тела: «Каков онтологический статус сознания по отношению к миру физической реальности?» доступные ответы в значительной степени аналогичны стандартным вариантам разума и тела включая основные версии дуализма и физикализма.
8.1 Дуалистические теории
Дуалистические теории касаются, по крайней мере, некоторых аспектов сознание как выходящее за пределы физического, но специфического формы дуализма различаются именно тем, какие это аспекты. (Смотри запись на дуализм.)
Субстанциальный дуализм , такой как традиционный картезианский дуализм
(Декарт 1644), утверждает существование как физического, так и
нефизические вещества. Такие теории подразумевают существование
нефизические умы или самости как сущности, в которых сознание
наследует. Хотя субстанциальный дуализм в настоящее время в значительной степени не в фаворе,
у него есть некоторые современные сторонники (Swinburne 1986, Foster 1989,
1996).
Дуализм свойств в нескольких его версиях пользуется большим уровень текущей поддержки. Все подобные теории утверждают существование сознательные свойства, которые не тождественны и не сводимы к физические свойства, но которые, тем не менее, могут быть конкретизированы те же самые вещи, которые реализуют физические свойства. В этом отношении они могут быть классифицированы как двойной аспект теории. Они берут некоторые части реальности — организмы, мозг, нейронные состояния или процессов — для создания экземпляров свойств двух различных и непересекающиеся виды: физические и сознательные, феноменальные или качественные те. Дуалистические теории двойственного аспекта или свойства могут иметь как минимум три различные виды.
Дуализм фундаментальных свойств касается сознательного ментального
свойства как основные составляющие действительности наравне с фундаментальными
физические свойства, такие как электромагнитный заряд. Они могут взаимодействовать
причинным и закономерным образом с другими фундаментальными свойствами, такими как
те из физики, но онтологически их существование не зависит
не производным от каких-либо других свойств (Chalmers 1996).
Дуализм эмерджентных свойств рассматривает сознательные свойства как возникающие из сложной организации физических составляющих, но как делать это радикальным образом, так что возникающий результат является чем-то помимо своих физических причин и не является априори предсказуемым и необъяснимым с точки зрения их строго физического натуры. Согласованность таких возникающих взглядов подвергалась сомнению (Kim 1998), но у них есть сторонники (Hasker 1999).
Нейтральный монистический дуализм свойств лечит обоих в сознании
психические свойства и физические свойства как-то зависят от
и производным от более базового уровня реальности, который сам по себе является
ни умственного, ни физического (Russell 1927, Strawson 1994). Однако, если
дуализм принимается как утверждение о существовании двух различных миров.
фундаментальных сущностей или свойств, то, возможно, нейтральный монизм
не следует классифицировать как разновидность дуализма свойств, поскольку
оно не рассматривает ни психические, ни физические свойства как окончательные или
фундаментальный.
Панпсихизм можно рассматривать как четвертый тип собственности дуализм в том смысле, что он рассматривает все составляющие реальности как имеющие некоторые психические или, по крайней мере, протопсихические свойства, отличные от какими бы физическими свойствами они ни обладали (Nagel 1979). Верно нейтральный монизм может последовательно сочетаться с какой-либо версией панпротопсихизма (Чалмерс 1996), согласно которому прото-ментальные аспекты микросоставляющих могут привести к подходящие условия сочетания с полноценным сознанием. (Видеть запись на панпсихизм.)
Природа соответствующего протопсихического аспекта остается неясной, и
такие теории сталкиваются с дилеммой, если они предлагаются в надежде ответить на трудный вопрос.
Проблема. Либо протопсихические свойства включают своего рода
качественное феноменальное ощущение, которое порождает Трудную проблему или они
нет. Если да, то трудно понять, как они могли
возникают как неотъемлемые свойства реальности. Как мог электрон или
кварк есть такое эмпирическое чувство? Однако если протопсихическое
свойства не связаны с такими ощущениями, непонятно, как они
лучше, чем физические свойства, способны объяснить качественные
сознания в решении Трудной Проблемы.
Как мог электрон или
кварк есть такое эмпирическое чувство? Однако если протопсихическое
свойства не связаны с такими ощущениями, непонятно, как они
лучше, чем физические свойства, способны объяснить качественные
сознания в решении Трудной Проблемы.
Более скромную форму панпсихизма отстаивали нейробиолог Джулио Тонони (2008 г.) и одобрен другими неврологи, включая Кристофа Коха (2012). Эта версия происходит из интегрированной информационной теории (ИИТ) сознания Тонони которая отождествляет сознание с интегрированной информацией, которая может существуют во многих степенях (см. раздел 9.6 ниже). По данным ИИТ, даже простое индикаторное устройство, такое как одиночный фотодиод, обладает некоторыми степень интегрированной информации и, следовательно, некоторая ограниченная степень сознания, следствие, которое и Тонони, и Кох считают форма панпсихизма.
В пользу дуалистических и других представлений приводится множество аргументов.
антифизикалистские теории сознания. Некоторые в значительной степени a
Priori по своей природе, такие как те, которые апеллируют к предполагаемому
мыслимость зомби (Kirk 1970, Chalmers 1996) или версии
аргумент знания (Джексон, 1982, 1986), целью которого является достижение
антифизикалистский вывод об онтологии сознания из
кажущиеся пределы нашей способности полностью понять качественное
аспекты сознательного опыта через физические счета от третьего лица
мозговых процессов. (См. Джексон 1998, 2004 г. для противоположного мнения;
см. также записи о
зомби,
а также
Квалиа: аргумент знания)
Другие аргументы в пользу дуализма основаны на более эмпирических основаниях, таких как
как те, которые апеллируют к предполагаемым причинно-следственным бреши в цепях физического
причинно-следственной связи в мозге (Eccles and Popper, 1977) или те, которые основаны на
предполагаемые аномалии во временном порядке сознания (Либет
1982, 1985). Дуалистические аргументы обоих видов вызывали много споров.
физикалистами (P.S. Churchland 1981, Dennett and Kinsbourne
1992).
(См. Джексон 1998, 2004 г. для противоположного мнения;
см. также записи о
зомби,
а также
Квалиа: аргумент знания)
Другие аргументы в пользу дуализма основаны на более эмпирических основаниях, таких как
как те, которые апеллируют к предполагаемым причинно-следственным бреши в цепях физического
причинно-следственной связи в мозге (Eccles and Popper, 1977) или те, которые основаны на
предполагаемые аномалии во временном порядке сознания (Либет
1982, 1985). Дуалистические аргументы обоих видов вызывали много споров.
физикалистами (P.S. Churchland 1981, Dennett and Kinsbourne
1992).
8.2 Физикалистские теории
Большинство других метафизических теорий сознания являются версиями физикализм того или иного рода.
Элиминативистские теории редуктивно отрицают существование
сознания или, по крайней мере, существование некоторых его обычно
принятые виды или признаки. (Смотри запись на
Элиминативный материализм.)
Радикальные элиминативисты отвергают само понятие сознания как
запутаны или ошибаются и заявляют, что сознательное/бессознательное
различие не в состоянии разрезать ментальную реальность на стыках (Wilkes 19). 84,
1988). Они считают идею сознания достаточно ошибочной.
цель заслуживает ликвидации и замены другими концепциями и
различия, более отражающие истинную природу ума
(П. С. Черчленд, 1983).
84,
1988). Они считают идею сознания достаточно ошибочной.
цель заслуживает ликвидации и замены другими концепциями и
различия, более отражающие истинную природу ума
(П. С. Черчленд, 1983).
Большинство элиминативистов более квалифицированы в своей отрицательной оценке. Вместо того, чтобы прямо отвергнуть это понятие, они спорят только с некоторые из выдающихся особенностей, которые, как обычно считается, включают в себя, такие как квалиа (Dennett 1990, Carruthers 2000), сознательное я (Деннет 1992), или так называемый «Картезианский театр», где временная последовательность сознательного опыта становится внутренней прогнозируется (Деннетт и Кинсборн, 1992). Более скромные элиминативисты, как Деннет, таким образом, обычно сочетают свои квалифицированные опровержения с позитивная теория тех аспектов сознания, которые они принимают за реальные, например, модель множественных уклонов (раздел 9.3 ниже).
Теория тождества , по крайней мере строгий психо-физический тип-тип
теория тождества предлагает еще один сильно редуктивный вариант
выявление сознательных психических свойств, состояний и процессов с
физические, чаще всего нервные или нейрофизиологические
природа. Если иметь качественный сознательный опыт феноменального
красный — это просто , находящийся в состоянии мозга с соответствующим
нейрофизиологические свойства, то такие эмпирические свойства
реальны, но их реальность — это прямо физическая реальность.
Если иметь качественный сознательный опыт феноменального
красный — это просто , находящийся в состоянии мозга с соответствующим
нейрофизиологические свойства, то такие эмпирические свойства
реальны, но их реальность — это прямо физическая реальность.
Теория тождества типов названа так потому, что она идентифицирует
психические и физические типы или свойства наравне с определением
свойство быть водой со свойством состоять из
H 2 Молекулы O. После непродолжительного периода популярности в
первые дни современного физикализма в XIX в.50-х и 60-х годов (Место
1956 г., Смарт 1959 г.) он получил гораздо меньшее распространение из-за проблем
например, возражение множественной реализации, согласно которому ментальное
свойства более абстрактны и поэтому могут быть реализованы
множество различных лежащих в основе структурных или химических субстратов (Fodor 1974,
Хеллман и Томпсон, 1975). Если одно и то же сознательное свойство
могут реализовываться различными нейрофизиологическими (или даже
ненейрофизиологические) свойства у разных организмов, то
два свойства не могут быть строго идентичными.
Тем не менее, в последнее время теория тождества типа пользуется некоторой популярностью. умеренное возрождение, по крайней мере, в отношении квалиа или качественного сознательные свойства. Отчасти это произошло из-за того, что лечение некоторые считают, что релевантная психофизическая связь как идентичность предлагают способ решения проблемы пробела в объяснении (Хилл и Маклафлин 1998, Папино 1995, 2003). Они утверждают, что если сознательное качественное свойство и нейронное свойство идентичны, то нет нужды объяснять, как последний вызывает или порождает к бывшему. это не причина это, это это это. А также таким образом, нет никакого пробела, который нужно преодолеть, и никаких дополнительных объяснений не требуется. Идентичности нельзя объяснить, поскольку ничто не тождественно ничему, кроме самого себя, и это не имеет смысла спрашивать, почему что-то тождественно самому себе.
Однако другие утверждают, что апелляция к тождеству типа не имеет смысла. так что, очевидно, нет необходимости в объяснении (Levine 2001). Даже если два
описания или понятия на самом деле относятся к одному и тому же свойству,
все еще можно разумно ожидать некоторого объяснения этой конвергенции,
какой-то отчет о том, как они выбирают одно и то же, несмотря на то, что не
изначально или интуитивно кажется, что это так. В других случаях
эмпирически открытые тождества свойств, такие как теплота и
кинетической энергии, есть история, которая объясняет
кореферентной конвергенции, и кажется справедливым ожидать того же в
психофизический случай. Таким образом, обращение к тождествам тип-тип может
само по себе недостаточно для решения проблемы пробела в объяснении.
так что, очевидно, нет необходимости в объяснении (Levine 2001). Даже если два
описания или понятия на самом деле относятся к одному и тому же свойству,
все еще можно разумно ожидать некоторого объяснения этой конвергенции,
какой-то отчет о том, как они выбирают одно и то же, несмотря на то, что не
изначально или интуитивно кажется, что это так. В других случаях
эмпирически открытые тождества свойств, такие как теплота и
кинетической энергии, есть история, которая объясняет
кореферентной конвергенции, и кажется справедливым ожидать того же в
психофизический случай. Таким образом, обращение к тождествам тип-тип может
само по себе недостаточно для решения проблемы пробела в объяснении.
Большинство физикалистских теорий сознания не являются ни элиминативистскими, ни на основе строгих тождеств типа типа. Они признают реальность сознания, но стремитесь локализовать его в физическом мире на основе некоторого психофизического отношения, кроме строгого свойства личность.
Среди распространенных вариантов есть те, которые принимают сознательную реальность за супервент на физическом плане, быть состоящим из физическим, или быть реализованным физическим.
Функционалистские теории, в частности, сильно опираются на понятие реализации для объяснения связи между сознания и физ. Согласно функционализму, государство или процесс считается принадлежащим к данному ментальному или сознательному типу в силу функциональной роли, которую он играет в правильно организованной системе (Блок 1980а). Данное физическое состояние реализует соответствующие сознательные умственный тип, играя соответствующую роль в более широком физическом система, которая его содержит. (Смотри запись на функционализм.) Функционалист часто обращается к аналогиям с другими межуровневыми отношения, как между биологическим и биохимическим или химическим и атомный. В каждом случае свойства или факты на одном уровне реализуется за счет сложных взаимодействий между элементами в основе уровень.
Критики функционализма часто отрицают, что сознание может быть
адекватно объяснены в функциональных терминах (Block 1980a, 1980b, Levine
1983, Чалмерс 1996). По мнению таких критиков, сознание может иметь
интересные функциональные характеристики, но его природа не
по сути функционально. Такие претензии иногда подкрепляются апелляцией.
к предполагаемой возможности отсутствия или перевернутого квалиа, т. е.
возможность существования существ, функционально эквивалентных нормальным людям
но которые изменили квалиа или вообще ничего. Статус таких
возможности спорны (Сапожник 1981, Деннет 1990,
Carruthers 2000), но если они будут приняты, они создадут проблему для
функционалист. (Смотри запись на
квалиа.)
По мнению таких критиков, сознание может иметь
интересные функциональные характеристики, но его природа не
по сути функционально. Такие претензии иногда подкрепляются апелляцией.
к предполагаемой возможности отсутствия или перевернутого квалиа, т. е.
возможность существования существ, функционально эквивалентных нормальным людям
но которые изменили квалиа или вообще ничего. Статус таких
возможности спорны (Сапожник 1981, Деннет 1990,
Carruthers 2000), но если они будут приняты, они создадут проблему для
функционалист. (Смотри запись на
квалиа.)
Те, кто основывает онтологический физикализм на отношении реализации часто сочетают его с нередуктивным взглядом на концептуальное или репрезентативном уровне, который подчеркивает автономию специального науки и различные способы описания и познавательного доступа они предоставляют.
Нередуктивный физикализм такого рода отрицает, что
теоретические и концептуальные ресурсы, подходящие и достаточные для
иметь дело с фактами на уровне лежащего в их основе субстрата или
уровень реализации должен быть адекватным и для работы с теми, кто
реализованный уровень (Патнэм 1975, Бойд 1980). Как было сказано выше в ответ
на вопрос «как» можно поверить, что все экономические факты
физически осознавать, не задумываясь о том, что ресурсы физического
науки предоставляют все познавательные и концептуальные инструменты, которые нам нужны для
заниматься экономикой (Фодор, 1974).
Как было сказано выше в ответ
на вопрос «как» можно поверить, что все экономические факты
физически осознавать, не задумываясь о том, что ресурсы физического
науки предоставляют все познавательные и концептуальные инструменты, которые нам нужны для
заниматься экономикой (Фодор, 1974).
Нередуктивный физикализм был оспорен за его предполагаемую несостоятельность. «оплачивать свои физикалистские взносы» редуктивной монетой. это обвинен в том, что якобы не дал адекватного отчета о том, насколько сознателен свойства реализуются или могут быть реализованы за счет лежащих в их основе нервных, физических или функциональные структуры или процессы (Ким 1987, 1998). Действительно, у него есть был обвинен в непоследовательности из-за попытки объединить претензия на физическую реализацию с отрицанием способности заклинания вывести это отношение строгим и априорным понятным образом (Джексон 2004).
Однако, как отмечалось выше при обсуждении вопроса «Как»,
нередуктивные физикалисты отвечают, соглашаясь с тем, что некоторое объяснение
психофизическая реализация действительно необходима, но добавляя, что
соответствующий счет может сильно отставать от априори выводимость,
тем не менее достаточно, чтобы удовлетворить наши законные объяснительные требования (Макгинн
1991, Ван Гулик, 1985). Вопрос остается на стадии обсуждения.
Вопрос остается на стадии обсуждения.
Хотя существует множество общих метафизических/онтологических теорий сознания, список конкретных подробных теорий о его природе еще длиннее и разнообразнее. Никакой краткий обзор не может быть близок к всеобъемлющим, но семь основных типов теорий могут помочь указать на базовый набор опций: теории высшего порядка, репрезентативные теории, интерпретативные нарративные теории, когнитивные теории, нейронные теории, квантовые теории и нефизические теории. категории не исключают друг друга; например, многие познавательные теории также предлагают нейронный субстрат для соответствующих когнитивных функций. процессы. Тем не менее, объединение их в семь классов дает базовый обзор.
9.1 Теории высшего порядка
Теории высшего порядка (HO) анализируют понятие сознательного ментального
состояние в терминах рефлексивного метапсихического самосознания. Основная идея
состоит в том, что то, что делает ментальное состояние М сознательным ментальным состоянием, это
тот факт, что оно сопровождается одновременным и невыводимым
состояние более высокого порядка (т. е. метаментальное), содержание которого состоит в том, что человек сейчас
в М. Сознательное желание шоколада подразумевает нахождение в
два психических состояния; нужно иметь как желание шоколада, так и
также состояние более высокого порядка, содержание которого состоит в том, что человек сейчас только что
такое желание. Бессознательные психические состояния бессознательны именно в
что нам не хватает соответствующих состояний более высокого порядка о них. Их существо
бессознательного состоит в том, что мы не рефлекторно и
непосредственно осознает, что находится в них. (Смотри запись на
теории сознания более высокого порядка.)
е. метаментальное), содержание которого состоит в том, что человек сейчас
в М. Сознательное желание шоколада подразумевает нахождение в
два психических состояния; нужно иметь как желание шоколада, так и
также состояние более высокого порядка, содержание которого состоит в том, что человек сейчас только что
такое желание. Бессознательные психические состояния бессознательны именно в
что нам не хватает соответствующих состояний более высокого порядка о них. Их существо
бессознательного состоит в том, что мы не рефлекторно и
непосредственно осознает, что находится в них. (Смотри запись на
теории сознания более высокого порядка.)
Теории высшего порядка существуют в двух основных вариантах, отличающихся друг от друга.
относительно психологического способа соответствующего сознательного создания
метапсихические состояния. Теории мышления высшего порядка (HOT)
требовалось, чтобы состояние более высокого порядка было ассерторическим мыслеподобным метасостоянием
(Розенталь, 1986, 1993). Теории восприятия высшего порядка (HOP) принимают
чтобы они были более похожи на восприятие и ассоциировались со своего рода внутренним
системы чувств и интраментального мониторинга (Армстронг, 1981, с.
Ликан 1987, 1996).
Теории восприятия высшего порядка (HOP) принимают
чтобы они были более похожи на восприятие и ассоциировались со своего рода внутренним
системы чувств и интраментального мониторинга (Армстронг, 1981, с.
Ликан 1987, 1996).
Каждый из них имеет свои относительные сильные стороны и проблемы. ГОРЯЧИЕ теоретики отмечают
что у нас нет органов внутренних чувств, и заявляем, что не испытываем
сенсорные качества, отличные от тех, которые представлены нам внешними направленными
восприятие. HOP-теоретики, с другой стороны, могут утверждать, что их точка зрения
объясняет некоторые дополнительные условия, требуемые для счетов HO, как
естественные последствия перцепционной природы релевантного
состояния более высокого порядка. В частности, требования о том,
метасостояние, создающее сознание, не должно быть выводным и одновременным с его
Ментальный объект более низкого уровня может быть объяснен параллельными условиями
которые обычно относятся к восприятию. Мы воспринимаем то, что происходит сейчас,
и мы делаем это таким образом, чтобы не делать никаких выводов, по крайней мере, никаких
явные выводы на личном уровне. Эти условия не менее
необходимы в ГОРЯЧЕМ представлении, но не объясняются им, что может
кажется, дает некоторое объяснительное преимущество модели HOP (Lycan 2004,
Van Gulick 2000), хотя некоторые ГОРЯЧИЕ теоретики утверждают обратное (Carruthers
2000).
Эти условия не менее
необходимы в ГОРЯЧЕМ представлении, но не объясняются им, что может
кажется, дает некоторое объяснительное преимущество модели HOP (Lycan 2004,
Van Gulick 2000), хотя некоторые ГОРЯЧИЕ теоретики утверждают обратное (Carruthers
2000).
Каковы бы ни были их достоинства, теории HOP и HOT сталкиваются с некоторыми трудностями.
общие проблемы, в том числе то, что можно было бы назвать общностью проблема. Наличие мысли или восприятия данного
предмет X — будь то камень, ручка или картофелина — не
в общем сделайте X сознательным X . Видеть или думать
картофеля на прилавке не делает его сознательным картофелем. Почему
затем следует иметь мысль или восприятие данного желания или
памяти сделать ее сознательным желанием или воспоминанием (Dretske 1995, Бирн
1997). Недостаточно также отметить, что мы не применяем термин
«сознательный» по отношению к камням или ручкам, которые мы воспринимаем или о которых думаем,
но только к ментальным состояниям, которые мы воспринимаем или о которых думаем (Lycan 1997,
Розенталь 1997). Это может быть правдой, но необходим какой-то отчет
почему это целесообразно.
Это может быть правдой, но необходим какой-то отчет
почему это целесообразно.
Воззрение более высокого порядка наиболее очевидно относится к метаментальному
формы сознания, но некоторые из его сторонников берут его для объяснения
и другие типы сознания, в том числе более субъективные
что это такое и качественные типы. Одной из распространенных стратегий является анализ
квалиа как психические особенности, способные проявляться бессознательно;
например, они могут быть объяснены как свойства внутренних состояний,
структурированные отношения сходства, породившие представления об объективных
сходства в мире (Сапожник 1975, 1990). Хотя без сознания
квалиа может играть эту функциональную роль, не нужно ничего, что
нравится находиться в состоянии, в котором они есть (Nelkin 1989, Rosenthal 1991,
1997). По мнению теоретика НО, как-это-подобие входит
только тогда, когда мы осознаем это состояние первого порядка и его качественное
свойства, имея соответствующее метасостояние, направленное на него.
Критики точки зрения HO оспаривают эту версию, а некоторые утверждал, что понятие бессознательных квалиа, на которых оно основано, бессвязный (Papineau 2002). Независимо от того, являются ли такие предполагаемые счета HO квалиа успешны, важно отметить, что большинство сторонников HO считать себя предлагающими всеобъемлющую теорию сознания, или, по крайней мере, ядро такой общей теории, а не просто один ограничивается некоторыми особыми метапсихическими его формами.
Другие варианты теории HO выходят за рамки стандартных HOT и HOP.
версий, включая те, которые анализируют сознание с точки зрения
диспозиционные, а не возникающие мысли высшего порядка (Carruthers
2000). Другие апеллируют к неявным, а не явным высшим порядкам.
понимания и ослабить или удалить стандартное предположение о том, что
мета-состояние должно быть отличным и отдельным от объекта более низкого порядка
(Дженнаро, 1995, Ван Гулик, 2000, 2004), причем такие взгляды пересекаются с
так называемые рефлексивные теории, обсуждаемые в разделе. Другие варианты
теории HO продолжают предлагаться, и дебаты между сторонниками и
критики основного подхода остаются активными. (см. последние статьи
в Дженнаро, 2004 г.)
Другие варианты
теории HO продолжают предлагаться, и дебаты между сторонниками и
критики основного подхода остаются активными. (см. последние статьи
в Дженнаро, 2004 г.)
9.2 Рефлексивные теории
Рефлексивные теории, как и теории более высокого порядка, предполагают сильную связь
между сознанием и самосознанием. Они отличаются тем, что
определить местонахождение аспекта самосознания непосредственно внутри сознательного
само состояние, а не в отдельном метасостоянии, направленном на него.
Идея о том, что сознательные состояния связаны с двойной интенциональностью, восходит к
по крайней мере, до Брентано (1874 г.) в 19 веке. Сознательное состояние
намеренно направлен на объект вне себя, например
дерево или стул в случае сознательного восприятия, а также
намеренно направлена на себя. Одно и то же государство является одновременно
направленное вовне осознание и осознание самого себя. Несколько недавних
теории утверждали, что такое рефлексивное осознание является центральным
характеристика сознательных психических состояний. Некоторые считают себя вариантами
теории высшего порядка (Дженнаро 2004, 2012), в то время как другие отвергают
категории более высокого порядка и описывают свои теории как представляющие
«тот же порядок» понимания сознания как самосознания
(Кригель 2009). Третьи бросают вызов различию уровней,
анализируя мета-интенциональное содержание как имплицитное в феноменальном
содержания первого порядка состояний сознания, как в так называемых состояниях высшего порядка.
Модели глобального состояния (HOGS) (Ван Гулик, 2004, 2006). Образец бумаги,
часть поддержки и часть критики рефлексивного взгляда можно найти в
Кригель и Уиллифорд (2006).
Некоторые считают себя вариантами
теории высшего порядка (Дженнаро 2004, 2012), в то время как другие отвергают
категории более высокого порядка и описывают свои теории как представляющие
«тот же порядок» понимания сознания как самосознания
(Кригель 2009). Третьи бросают вызов различию уровней,
анализируя мета-интенциональное содержание как имплицитное в феноменальном
содержания первого порядка состояний сознания, как в так называемых состояниях высшего порядка.
Модели глобального состояния (HOGS) (Ван Гулик, 2004, 2006). Образец бумаги,
часть поддержки и часть критики рефлексивного взгляда можно найти в
Кригель и Уиллифорд (2006).
9.3 Репрезентационалистские теории
Почти все теории сознания рассматривают его как наличие
репрезентативные черты, но так называемые репрезентативные теории
определяются более сильным мнением о том, что его репрезентативные особенности
исчерпывают его психические возможности (Harman 1990, Тай 1995, 2000). Согласно с
репрезентационалистские, сознательные ментальные состояния не имеют ментального
свойства, отличные от их репрезентативных свойств. Таким образом, два
сознательные или эмпирические состояния, которые разделяют все свои репрезентативные
свойства не будут различаться ни в каком ментальном отношении.
Таким образом, два
сознательные или эмпирические состояния, которые разделяют все свои репрезентативные
свойства не будут различаться ни в каком ментальном отношении.
Точная сила утверждения зависит от того, как человек интерпретирует идею. быть «репрезентативно одним и тем же», для которого существуют много правдоподобных альтернативных критериев. Можно было бы грубо определить его в условия удовлетворения или условия истинности, но понимаемые таким образом репрезентационалистский тезис кажется явно ложным. Слишком много способы, которыми состояния могут делиться своими условиями удовлетворения или истинности все же различаются ментально, в том числе в том, что касается их способа осмысление или представление этих условий.
С другой стороны, можно считать два состояния
репрезентативно различны, если они отличаются какими-либо признаками, которые
играли роль в их репрезентативной функции или операции. На такие
при либеральном прочтении учитывались бы любые различия в носителях содержания. как репрезентативные различия, даже если они несли один и тот же интенциональный
или репрезентативный контент; они могут отличаться только своим означает или режим представления не их содержание .
как репрезентативные различия, даже если они несли один и тот же интенциональный
или репрезентативный контент; они могут отличаться только своим означает или режим представления не их содержание .
Такое прочтение, конечно, повысило бы правдоподобие
утверждают, что репрезентативные свойства сознательного состояния исчерпывают его
психические свойства, но ценой значительного ослабления или даже
упрощение тезиса. Таким образом, репрезенталист, по-видимому, нуждается в
интерпретация репрезентативного сходства , выходящая за рамки
простое удовлетворение условий и отражает все преднамеренные или
содержательные аспекты репрезентации, не обращая внимания на простые
различия в основных несодержательных характеристиках процессов в
уровень реализации. Таким образом, большинство репрезентационистов предоставляют условия
для сознательного опыта, которые включают как условие содержания, так и
некоторые дополнительные каузальные роли или требования к формату (Тай 1995, Дрецке
1995, Каррутерс 2000). Другие репрезентационисты признают существование
квалиа, но относиться к ним как к объективным свойствам, которые внешние объекты
представлены как имеющие, т. е. они трактуют их как представляет свойства , а не свойства представлений или психических состояний (Dretske 1995, Lycan
1996).
Другие репрезентационисты признают существование
квалиа, но относиться к ним как к объективным свойствам, которые внешние объекты
представлены как имеющие, т. е. они трактуют их как представляет свойства , а не свойства представлений или психических состояний (Dretske 1995, Lycan
1996).
Репрезентативность можно понимать как квалифицированную форму
элиминативизм, поскольку он отрицает существование свойств
такого рода, что сознательные психические состояния обычно считаются
имеют — или, по крайней мере, кажутся — именно те, которые ментальны, но не
репрезентативный. Квалиа, по крайней мере, если понимать ее как внутреннюю монадическую
свойств сознательных состояний, доступных интроспекции, казалось бы,
быть наиболее очевидными целями для такой ликвидации. Действительно часть
мотивация репрезентативизма состоит в том, чтобы показать, что можно приспособиться
все факты о сознании, возможно, в рамках физикалистского
рамки, без необходимости находить место для квалиа или любых других
явно нерепрезентативные ментальные свойства (Dennett 1990, Ликан
1996, Каррутерс 2000).
В последние годы репрезентативизм был весьма популярен. много защитников, но остается весьма спорным и интуитивным конфликты по поводу ключевых случаев и мысленных экспериментов (Block 1996). В в частности, возможность перевернутого квалиа представляет собой важный тест кейс. Для антипредставителей простая логическая возможность перевернутые квалиа показывают, что состояния сознания могут существенно различаться. ментальное уважение при репрезентативном совпадении. Представители в ответ отрицают либо возможность такого инверсия или ее предполагаемый импорт (Дрецке 1995, Тай 2000).
Было приведено много других аргументов за и против
репрезентативность, например, относящаяся к восприятию в различных
чувственные модальности одного и того же положения дел — видение
и ощущение одного и того же куба, что, как может показаться, связано с умственным
различия, отличные от того, как соответствующие государства представляют мир
быть (Пикок 1983, Тай 2003). В каждом случае обе стороны могут собраться
сильная интуиция и изобретательность в аргументации. Оживленные дебаты
продолжается.
Оживленные дебаты
продолжается.
9.4 Теории нарративной интерпретации
Некоторые теории сознания подчеркивают интерпретативную природу факты о сознании. Согласно таким взглядам, что есть, а что нет сознательное не всегда является определенным фактом или, по крайней мере, не так независимо от более широкого контекста интерпретационных суждений. Большинство выдающимся философским примером является модель множественных черновиков (MDM) сознание, предложенное Дэниелом Деннетом (1991). Он сочетает в себе элементы как репрезентативизма, так и теории более высокого порядка, но делает это в способ, который интересно отличается от более стандартных версий либо предоставление более интерпретативного и менее реалистичного взгляд на сознание.
MDM включает в себя множество различных, но взаимосвязанных функций. Его имя
отражает тот факт, что в любой данный момент содержательные фиксации многих
происходят по всему мозгу. Что делает некоторые из них
содержание сознания состоит не в том, что оно происходит в привилегированном пространственном или
функциональное расположение — так называемая «картезианская
Театр» — ни в особом режиме или формате, все из которых
МДМ отрицает. Скорее это вопрос того, что Деннет называет «церебральным».
знаменитость», т. е. степень, в которой данный контент влияет на
будущее развитие другого содержимого по всему мозгу,
особенно в отношении того, как эти эффекты проявляются в
отчеты и поведение, которые человек делает в ответ на различные
зонды, которые могут указывать на ее сознательное состояние. Один из ключей MDM
утверждения заключается в том, что разные зонды (например,
вопросы или пребывание в разных контекстах, которые делают разные
поведенческие требования) могут вызвать разные ответы о
сознательное состояние. Более того, согласно МДМ может и не быть
зондово-независимый факт, о чем сознает лицо
состояние действительно было. Отсюда «множественность» Множественного
Модель шашек.
Скорее это вопрос того, что Деннет называет «церебральным».
знаменитость», т. е. степень, в которой данный контент влияет на
будущее развитие другого содержимого по всему мозгу,
особенно в отношении того, как эти эффекты проявляются в
отчеты и поведение, которые человек делает в ответ на различные
зонды, которые могут указывать на ее сознательное состояние. Один из ключей MDM
утверждения заключается в том, что разные зонды (например,
вопросы или пребывание в разных контекстах, которые делают разные
поведенческие требования) могут вызвать разные ответы о
сознательное состояние. Более того, согласно МДМ может и не быть
зондово-независимый факт, о чем сознает лицо
состояние действительно было. Отсюда «множественность» Множественного
Модель шашек.
МДМ является репрезентативным в том смысле, что анализирует сознание в
условия содержательных отношений. Он также отрицает существование квалиа и
тем самым отвергает любую попытку отличить сознательные состояния от
бессознательные состояния своим присутствием. Он также отвергает понятие
себя как внутреннего наблюдателя, независимо от того, находится ли он в картезианской
Театр или где-то еще. МДМ рассматривает себя как эмерджентное или
виртуальный аспект связного, примерно серийного повествования, т.
построенный посредством интерактивного воспроизведения содержимого в
система. Многие из этих материалов связаны вместе в преднамеренном
уровне как восприятия или фиксации из относительно единого и
протяжённая во времени точка зрения, т. е. они согласуются в своём содержании
как если бы они были переживаниями продолжающегося «я». Но это порядок
зависимости, которая имеет решающее значение для учетной записи MDM. Подходящий
содержание не унифицировано, потому что все они наблюдаются одним
себе, а как раз наоборот. Потому что они едины и
связны на уровне содержания, которое они считают опытом
единственное «я», по крайней мере, единственное виртуальное «я».
Он также отвергает понятие
себя как внутреннего наблюдателя, независимо от того, находится ли он в картезианской
Театр или где-то еще. МДМ рассматривает себя как эмерджентное или
виртуальный аспект связного, примерно серийного повествования, т.
построенный посредством интерактивного воспроизведения содержимого в
система. Многие из этих материалов связаны вместе в преднамеренном
уровне как восприятия или фиксации из относительно единого и
протяжённая во времени точка зрения, т. е. они согласуются в своём содержании
как если бы они были переживаниями продолжающегося «я». Но это порядок
зависимости, которая имеет решающее значение для учетной записи MDM. Подходящий
содержание не унифицировано, потому что все они наблюдаются одним
себе, а как раз наоборот. Потому что они едины и
связны на уровне содержания, которое они считают опытом
единственное «я», по крайней мере, единственное виртуальное «я».
Именно в этом отношении MDM разделяет некоторые элементы с
теории высшего порядка. Содержание, из которого состоит серийное повествование
являются, по крайней мере, имплицитно текущими, хотя и виртуальными самостями, и это
они, скорее всего, будут выражены в сообщениях человека
делает ее сознательное состояние в ответ на различные зонды. Таким образом, они
включают в себя определенную степень рефлексивности или самосознания
это центральное место в теориях более высокого порядка, но аспект более высокого порядка
является скорее неявной особенностью потока содержимого, чем
присутствуют в различных явных состояниях более высокого порядка, подобных обнаруженным в
Стандартные теории HO.
Таким образом, они
включают в себя определенную степень рефлексивности или самосознания
это центральное место в теориях более высокого порядка, но аспект более высокого порядка
является скорее неявной особенностью потока содержимого, чем
присутствуют в различных явных состояниях более высокого порядка, подобных обнаруженным в
Стандартные теории HO.
MDM Деннета оказал большое влияние, но также привлек критики, особенно со стороны тех, кто находит ее недостаточно реалистичной в свой взгляд на сознание и в лучшем случае неполный в достижении своего поставил цель полностью объяснить ее (Block 1994, Dretske 1994, Levine 1994). Многие из его критиков признают проницательность и ценность МДМ, но отрицают, что нет никаких реальных фактов сознания, кроме захваченные ею (Rosenthal 1994, Van Gulick 1994, Akins 1996).
С более эмпирической точки зрения нейробиолог Майкл
Gazzaniga (2011) представил идею «переводчика
модуль», базирующийся в левом полушарии, который имеет смысл нашего
действия любым выводным способом и строит непрерывный рассказ о
наши действия и опыт. Хотя теория не предназначена для
полной теории сознания, она отводит большую роль таким
интерпретационная повествовательная деятельность.
Хотя теория не предназначена для
полной теории сознания, она отводит большую роль таким
интерпретационная повествовательная деятельность.
9.5 Когнитивные теории
Ряд теорий сознания связывают его с отчетливым когнитивной архитектурой или с особым образцом деятельности с этим структура.
Глобальная рабочая область . Главный психологический пример
когнитивный подход — это теория глобального рабочего пространства. Как изначально
разработанная Бернардом Баарсом (1988)) глобальная теория рабочего пространства описывает
сознание в условиях конкуренции процессоров и выходов
для ресурса с ограниченной пропускной способностью, который «транслирует» информацию для
широкий доступ и использование. Будучи таким образом доступным для всего мира
рабочее пространство делает информацию осознанной, по крайней мере, в смысле доступа. Это
доступен для отчета и гибкого управления поведением. Много
как «мозговая знаменитость» Деннета, транслируемая в рабочем пространстве
делает контент более доступным и влиятельным по отношению к другим
содержание и другие процессоры. При этом исходное содержание
подкрепляется периодической поддержкой со стороны рабочего места и со стороны
другое содержание, с которым оно согласуется. Ограничения пропускной способности на
рабочее пространство соответствует ограничениям, обычно накладываемым на фокус внимания
или рабочая память во многих когнитивных моделях.
При этом исходное содержание
подкрепляется периодической поддержкой со стороны рабочего места и со стороны
другое содержание, с которым оно согласуется. Ограничения пропускной способности на
рабочее пространство соответствует ограничениям, обычно накладываемым на фокус внимания
или рабочая память во многих когнитивных моделях.
Модель была доработана с предлагаемыми подключениями к
Особые нейронные и функциональные системы мозга, Станислас Деэне
и др. (2000). Особое значение имеет утверждение, что
сознание как в доступном, так и в феноменальном смысле возникает, когда и
только когда соответствующий контент попадает в более крупную глобальную сеть
вовлекая как первичные сенсорные области, так и многие другие области
включая лобные и теменные области, связанные с
внимание. Деэне утверждает, что сознательное восприятие начинается только с
«зажигание» этой более крупной глобальной сети; деятельность в первичном
сенсорных областей будет недостаточно, какими бы интенсивными или повторяющимися
(хотя см. противоположное мнение Виктора Ламме в разделе 9.7).
противоположное мнение Виктора Ламме в разделе 9.7).
Посещал промежуточное представительство . Другая когнитивная теория
Джесси Принц (2012) посещал представительство среднего уровня
теория (ЭЙР). Теория представляет собой нейрокогнитивный гибридный подход к
сознательный. Согласно теории AIR, сознательное восприятие должно соответствовать
как когнитивные, так и нервные состояния. Это должно быть представление о
промежуточное свойство восприятия, которое, как утверждает Принц, является единственным
свойства, о которых мы знаем в сознательном опыте, — мы
воспринимать только основные свойства внешних объектов, такие как цвета,
формы, тона и ощущения. Согласно Принцу, наше осознание высшего
свойства уровня — например, быть сосной или ключи от машины —
полностью вопрос суждения, а не сознательного опыта. Следовательно
Промежуточный репрезентативный (IR) аспект AIR. Быть в сознании
такой представленный контент также должен присутствовать (аспект А
ВОЗДУХА). Принц предлагает определенный нейронный субстрат для каждого компонента. Он отождествляет представления промежуточного уровня с гаммой.
(40–80 Гц) векторная активность сенсорной коры и внимания
компонент с синхронизированными колебаниями, который может включать в себя это
гамма-векторная активность.
Он отождествляет представления промежуточного уровня с гаммой.
(40–80 Гц) векторная активность сенсорной коры и внимания
компонент с синхронизированными колебаниями, который может включать в себя это
гамма-векторная активность.
9.6 Теория интеграции информации
Интеграция информации из многих источников является важным
особенностью сознания и, как отмечалось выше (раздел 6.4), часто
называют одной из его основных функций. Интеграция контента играет
важная роль в различных теориях, особенно в теории глобального рабочего пространства
(раздел 9.3). Однако предложение нейробиолога Джулио
Тонони (2008) идет дальше в отождествлении сознания с
интегрированную информацию и утверждение, что информационная интеграция
соответствующий вид одновременно необходим и достаточен для сознания
независимо от субстрата, в котором он реализован (что необязательно
нейронные или биологические). Согласно интегрированной информации Тонони
Теория (ИИТ), сознание есть чисто информационно-теоретическое свойство
систем. Он предлагает математическую меру φ, которая направлена на
измерять не только информацию в частях данной системы, но и
также информация, содержащаяся в организации системы над
и выше этого в его частях. φ, таким образом, соответствует
степень информационной интеграции. Такая система может содержать множество
перекрывающиеся комплексы и комплекс с наибольшим значением φ
будет в сознании согласно IIT.
Он предлагает математическую меру φ, которая направлена на
измерять не только информацию в частях данной системы, но и
также информация, содержащаяся в организации системы над
и выше этого в его частях. φ, таким образом, соответствует
степень информационной интеграции. Такая система может содержать множество
перекрывающиеся комплексы и комплекс с наибольшим значением φ
будет в сознании согласно IIT.
Согласно ИИТ, сознание различается по количеству и приходит в
много градусов, которые соответствуют значениям φ. Таким образом, даже простой
системе такой одиночный фотодиод будет в некоторой степени сознательным, если
он не содержится в более крупном комплексе. В этом смысле ИИТ
подразумевает форму панпсихизма, которую Тонони явно поддерживает.
Согласно ИИТ, качество релевантного сознания
определяется совокупностью информационных отношений внутри
соответствующий интегрированный комплекс. Таким образом, ИИТ стремится объяснить как
количество и качество феноменального сознания. Другой
нейробиологи, особенно Кристоф Кох, также поддержали ИИТ. подход (Кох, 2012).
подход (Кох, 2012).
9.7 Нейронные теории
Нейронные теории сознания существуют во многих формах, хотя большинство каким-то образом касаются так называемых «нейронных коррелятов сознания» или NCC. Если только один не дуалист или другой нефизикалист, требуется нечто большее, чем простая корреляция; по крайней мере некоторые NCC должны быть существенными субстратами сознания. пояснительный Нейронная теория должна объяснить, почему и как соответствующие корреляции существуют, и если теория привержена физикализму, это потребует показывая, как лежащие в основе нейронные субстраты могут быть идентичны свои нейронные корреляты или, по крайней мере, реализуют их, удовлетворяя требуемые роли или условия (Metzinger 2000).
Такие теории разнообразны не только в нервных процессах или
свойств, к которым они обращаются, но и в аспектах
сознание они принимают в качестве своего соответствующего объяснения. Некоторые из них основаны
на высокоуровневых системных функциях мозга, но другие сосредотачиваются на более
специфические физиологические или структурные свойства с соответствующими
различия в предполагаемых объяснительных целях. Большинство в некотором роде
стремится соединиться с теориями сознания на других уровнях
описание, такое как когнитивное, репрезентативное или более высокое
теории.
Большинство в некотором роде
стремится соединиться с теориями сознания на других уровнях
описание, такое как когнитивное, репрезентативное или более высокое
теории.
Выборка последних нейронных теорий может включать модели, которые обращение к глобальным интегрированным полям (Кинсбурн), связывание через синхронные колебания (Зингер, 1999, Крик и Кох, 1990), NMDA-опосредованные временные нейронные сборки (Flohr 1995), таламически модулированные паттерны активации коры (Llinas 2001), возвратный корковые петли (Edelman 1989), компараторные механизмы, которые участвуют в непрерывные циклы действия-прогнозирования-оценки между лобной и области среднего мозга (Gray 1995), интерпретация на основе левого полушария процессов (Газзанига 1988), и эмоциональный соматосенсорный кровоостанавливающий процессы, базирующиеся в лобно-лимбической связи (Damasio 1999) или в периакведуктальный серый (Panksepp 1998).
В каждом случае цель состоит в том, чтобы объяснить, как организация и деятельность в
соответствующий нейронный уровень может лежать в основе того или иного основного типа или
особенность сознания. Глобальные поля или временные синхронные
сборки могли лежать в основе интенционального единства феноменального
сознание. Пластичность на основе NMDA, специфические таламические проекции
в кору, или регулярные колебательные волны могут способствовать
формирование кратковременных, но распространенных нейронных паттернов или
закономерности, необходимые для того, чтобы связать интегрированный сознательный опыт из
локальная активность в различных специализированных модулях мозга. Левое полушарие
интерпретационные процессы могут служить основой для нарративных форм
сознательное самосознание. Таким образом, возможно несколько различных
нейронных теорий, чтобы все они были верны, и каждая из них вносила свой частичный вклад.
понимание связей между сознательной психикой в ее разнообразной
формы и активный мозг на многих уровнях его сложной организации.
и структура.
Глобальные поля или временные синхронные
сборки могли лежать в основе интенционального единства феноменального
сознание. Пластичность на основе NMDA, специфические таламические проекции
в кору, или регулярные колебательные волны могут способствовать
формирование кратковременных, но распространенных нейронных паттернов или
закономерности, необходимые для того, чтобы связать интегрированный сознательный опыт из
локальная активность в различных специализированных модулях мозга. Левое полушарие
интерпретационные процессы могут служить основой для нарративных форм
сознательное самосознание. Таким образом, возможно несколько различных
нейронных теорий, чтобы все они были верны, и каждая из них вносила свой частичный вклад.
понимание связей между сознательной психикой в ее разнообразной
формы и активный мозг на многих уровнях его сложной организации.
и структура.
Один конкретный недавний спор касался вопроса о том,
глобальная или просто локальная повторяющаяся активность достаточна для феноменального
сознание. Сторонники модели глобального нейронного рабочего пространства
(Dehaene 2000) утверждали, что сознание любого рода может возникать
только когда содержимое активируется с крупномасштабным рисунком
периодическая активность, затрагивающая лобные и теменные области, а также
первичные сенсорные зоны коры. Другие, в частности
психолог Виктор Ламме (2006 г.) и философ Нед Блок (2007 г.)
утверждали, что локальная повторяющаяся активность между высшим и нижним
областей сенсорной коры (например, зрительной коры) может быть достаточно для
феноменальное сознание даже при отсутствии вербальной отчетливости
и другие показатели доступа к сознанию.
Сторонники модели глобального нейронного рабочего пространства
(Dehaene 2000) утверждали, что сознание любого рода может возникать
только когда содержимое активируется с крупномасштабным рисунком
периодическая активность, затрагивающая лобные и теменные области, а также
первичные сенсорные зоны коры. Другие, в частности
психолог Виктор Ламме (2006 г.) и философ Нед Блок (2007 г.)
утверждали, что локальная повторяющаяся активность между высшим и нижним
областей сенсорной коры (например, зрительной коры) может быть достаточно для
феноменальное сознание даже при отсутствии вербальной отчетливости
и другие показатели доступа к сознанию.
9.8 Квантовые теории
Другие физические теории вышли за рамки нейронных и поместили
естественное местонахождение сознания на гораздо более фундаментальном уровне, в
особенно на микрофизическом уровне квантовых явлений. В соответствии
к таким теориям природа и основа сознания не могут быть
адекватно понимается в рамках классической физики, но
следует искать в альтернативной картине физической реальности
обеспечивается квантовой механикой. Сторонники кванта.
подход сознания рассматривают радикально альтернативный и часто
контринтуитивную природу квантовой физики как раз то, что необходимо для
преодолевать предполагаемые объяснительные препятствия, с которыми сталкиваются более стандартные
попытки преодолеть психофизический разрыв.
Сторонники кванта.
подход сознания рассматривают радикально альтернативный и часто
контринтуитивную природу квантовой физики как раз то, что необходимо для
преодолевать предполагаемые объяснительные препятствия, с которыми сталкиваются более стандартные
попытки преодолеть психофизический разрыв.
Опять же, существует широкий спектр конкретных теорий и моделей, которые были предложены, обращаясь к множеству квантовых явлений для объяснить многообразие особенностей сознания. Это было бы невозможно каталогизировать их здесь или даже объяснить каким-либо существенным образом ключевые особенности квантовой механики, к которым они обращаются. Однако краткое выборочное исследование может дать представление, хотя и частичное и малоизвестен из предложенных вариантов.
Физик Роджер Пенроуз (1989, 1994) и анестезиолог
Стюарт Хамерофф (1998) отстаивал модель, согласно которой
сознание возникает благодаря квантовым эффектам, происходящим внутри
субклеточные структуры внутри нейронов, известные как микротрубочки . В модели установлен так называемый «объектив ».
коллапс 90 192», в котором квантовая система перемещается из
суперпозиция нескольких возможных состояний в одно определенное состояние,
но без вмешательства наблюдателя или измерения, как в большинстве
квантово-механические модели. Согласно Пенроузу и Хамероффу,
среда внутри микротрубочек особенно подходит для
такой объектив рушится, и возникающие в результате этого самоколлапсы производят
когерентный поток, регулирующий активность нейронов и делающий неалгоритмическим
возможны психические процессы.
В модели установлен так называемый «объектив ».
коллапс 90 192», в котором квантовая система перемещается из
суперпозиция нескольких возможных состояний в одно определенное состояние,
но без вмешательства наблюдателя или измерения, как в большинстве
квантово-механические модели. Согласно Пенроузу и Хамероффу,
среда внутри микротрубочек особенно подходит для
такой объектив рушится, и возникающие в результате этого самоколлапсы производят
когерентный поток, регулирующий активность нейронов и делающий неалгоритмическим
возможны психические процессы.
Психиатр Ян Маршалл предложил модель, направленную на
объяснить связное единство сознания обращением к производству
в мозгу физического состояния, похожего на состояние Конденсат Бозе-Эйнштейна . Последнее представляет собой квантовое явление в
в котором совокупность атомов действует как единое когерентное целое, а
различие между дискретными атомами теряется. Хотя состояния мозга не
буквально примеры конденсатов Бозе-Эйнштейна, причины были
предложили показать, почему мозг может порождать состояния, которые
способны демонстрировать аналогичную согласованность (Маршалл и Зохар
1990).
Основу сознания искали также в целостный характер квантовой механики и явление запутанность , согласно которой частицы, имеющие взаимодействующие продолжают иметь свою природу, зависящую друг от друга, даже после их разделения. Неудивительно, что эти модели стали мишенью особенно при объяснении когерентности сознания, но они также вызывался как более общий вызов атомистическому концепция традиционной физики, согласно которой свойства целое следует объяснять обращением к свойствам его частей плюс способ их сочетания, способ объяснения, который мог бы быть считается безуспешным на сегодняшний день в объяснении сознания (Зильберштейн 1998, 2001).
Другие использовали квантовую механику, чтобы показать, что сознание
является абсолютно фундаментальным свойством физической реальности, которое
необходимо ввести на самом базовом уровне (Stapp 1993). Они
обращались особенно к роли наблюдателя в крахе
волновая функция, то есть коллапс квантовой реальности из
суперпозиция возможных состояний к одному определенному состоянию, когда
производится измерение. Такие модели могут охватывать или не охватывать форму
квазиидеализм, в котором само существование физической реальности зависит
при его сознательном наблюдении.
Такие модели могут охватывать или не охватывать форму
квазиидеализм, в котором само существование физической реальности зависит
при его сознательном наблюдении.
Есть много других квантовых моделей сознания, которые можно найти в литературе — некоторые из них пропагандируют радикально ревизионистский метафизика, а другие нет, но эти четыре обеспечивают разумное, хотя и частичная, выборка альтернатив.
9.9 Нефизические теории
Наиболее конкретные теории сознания — будь то когнитивные,
нейронные или квантово-механические — стремитесь объяснить или смоделировать
сознание как естественная черта физического мира. Однако,
те, кто отвергает физикалистскую онтологию сознания, должны найти пути
моделировать его как нефизический аспект реальности. Таким образом, те, кто принимает
дуалистический или антифизикалистский метафизический взгляд должен, в конце концов, обеспечить
конкретные модели сознания, отличные от пяти вышеперечисленных типов.
И дуалисты субстанций, и дуалисты свойств должны развивать детали. своих теорий таким образом, чтобы они выражали специфическую природу
релевантные нефизические характеристики реальности, с которыми они отождествляются
сознания или к которому они обращаются, чтобы объяснить его.
своих теорий таким образом, чтобы они выражали специфическую природу
релевантные нефизические характеристики реальности, с которыми они отождествляются
сознания или к которому они обращаются, чтобы объяснить его.
Было предложено множество таких моделей, включая следующие.
Дэвид Чалмерс (1996) предложил, по общему признанию, умозрительную версию
панпсихизм, который апеллирует к понятию информации не только
объяснить психофизическую инвариантность между феноменальным и физическим
реализованных информационных пространств, но и, возможно, объяснить онтологию
физического как производного от информационного (вариант
теория «это из бита»). Примерно в том же духе Грегг
Розенберг (2004) предложил объяснение сознания, которое
одновременно обращается к конечному категориальному основанию причинно-следственной связи.
связи. Как в каузальном, так и в сознательном случае Розенберг
утверждает, что реляционно-функциональные факты должны в конечном счете зависеть от
категориальной нереляционной основе, и он предлагает модель согласно
какие причинные отношения и качественные феноменальные факты зависят
на той же базе. Кроме того, как отмечалось чуть выше (раздел 9.8), некоторые
квантовые теории рассматривают сознание как фундаментальную характеристику
реальности (Stapp 1993), и в той мере, в какой они это делают, они могут быть
также правдоподобно классифицируются как нефизические теории.
Кроме того, как отмечалось чуть выше (раздел 9.8), некоторые
квантовые теории рассматривают сознание как фундаментальную характеристику
реальности (Stapp 1993), и в той мере, в какой они это делают, они могут быть
также правдоподобно классифицируются как нефизические теории.
Всестороннее понимание сознания, вероятно, потребует теории многих типов. Можно с пользой и без противоречия принять разнообразие моделей, каждая из которых по-своему направлена соответственно объяснить физические, нервные, когнитивные, функциональные, репрезентативный и высший аспекты сознания. Есть маловероятно, что какая-либо единственная теоретическая точка зрения достаточна для объясняя все свойства сознания, которые мы хотим понять. Таким образом, синтетический и плюралистический подход может обеспечить лучший путь к будущему прогрессу.
Что такое сознание? | Живая наука
Является ли сознание исключительно человеческим? Или другие живые существа имеют его в разной степени? (Изображение предоставлено Shutterstock) Люди когда-то предполагали, что наша планета является физическим центром солнечной системы , поэтому неудивительно, что мы также высоко ценим сознание, явно уникальное качество, которое позволяет нашему виду размышлять о таких вещах.
Но что такое сознание? Тема была чрезвычайно спорной в научной и философской традициях. Мыслители потратили огромное количество времени и чернил, пытаясь разгадать тайны, например, как работает сознание и где оно находится.
Короткий ответ не очень удовлетворителен. Ученые и философы до сих пор не могут договориться о смутном представлении о том, что такое сознание, не говоря уже о строгом определении. Одна из причин этого заключается в том, что это понятие используется для обозначения несколько иных вещей . Однако многие эксперты согласны с тем, что сознательные существа осознают свое окружение, самих себя и свое собственное восприятие.
Связанный: Сможем ли мы когда-нибудь перестать думать?
Но длинный ответ оставляет место для надежды, потому что исследователи, похоже, приближаются к ответу.
Что-то особенное?
Современные исследователи показали, что они могут использовать технику сканирования мозга, известную как функциональная МРТ –, обнаруживать сознание путем косвенного измерения кровотока в мозге , процесс, который может указать, какие области мозга более активны, чем другие. Но на протяжении тысячелетий не было возможности собрать доказательства этого явления. Это сделало тему сложной для мыслителей, ценивших рациональность и методичные эксперименты.
Но на протяжении тысячелетий не было возможности собрать доказательства этого явления. Это сделало тему сложной для мыслителей, ценивших рациональность и методичные эксперименты.
В западном мире итальянский астроном Галилео Галилей пытался вывести все, что связано с сознанием , за пределы области научных исследований. Поколением позже французский математик и философ Рене Декарт сфокусировал сознание чуть более четко, выдвинув аргумент, что разум (или душа) и тело — это две принципиально разные вещи. Эта позиция называется дуализмом разума и тела.
«Подавляющее большинство [мыслителей] привыкли думать, что сознание — нечто особенное», — сказала Live Science Сюзанна Шелленберг, выдающийся профессор философии и когнитивных наук в Университете Рутгерса в Нью-Джерси.
Но такое отношение утратило популярность, отчасти благодаря таким людям, как биолог XIX века Томас Хаксли, который помог ввести в представление о том, что происходящее в уме является результатом материальных событий, происходящих в мозгу. Это перспектива, популярность которой выросла.
Это перспектива, популярность которой выросла.
«Идея, которой я придерживаюсь, — это физикалистская точка зрения, согласно которой сознание не представляет собой ничего особенного в мире», — сказал Шелленберг. Это значительно упрощает представление о том, что люди не одиноки в обладании сознанием.
«Мы пишем стихи, а кролики, насколько мы можем судить, нет», — сказала она. «Итак, это разница в степени, а не в характере».
Вглядываясь в древо жизни
«Почти все, что вы можете сказать о [сознании] — это какая-то чушь», — сказал Джозеф Леду, профессор нейронауки и психиатрии в Нью-Йоркском университете. «Единственный способ описать это — с точки зрения того, чем оно является и чем оно не является».
Сравнивая человеческое сознание с сознанием других животных, Леду считает полезным взглянуть на нейроанатомию. Например, люди уникальны тем, что имеют высокоразвитую кору лобного полюса — часть мозга, которую исследователи связывают со способностью понимать, что у человека на уме. Это важный аспект сознания практически по любому определению. Хотя нечеловеческие приматы не могут похвастаться этой поздней модельной областью мозга, у многих из них есть другие эволюционно недавние дополнения к мозгу, такие как дорсолатеральная префронтальная кора. Это связано с сознанием, и у людей оно тоже есть. Например, согласно исследованию 2015 года, эта область мозга связана с оперативной памятью у людей.1155 обзор в журнале Frontiers in Systems Neuroscience .
Это важный аспект сознания практически по любому определению. Хотя нечеловеческие приматы не могут похвастаться этой поздней модельной областью мозга, у многих из них есть другие эволюционно недавние дополнения к мозгу, такие как дорсолатеральная префронтальная кора. Это связано с сознанием, и у людей оно тоже есть. Например, согласно исследованию 2015 года, эта область мозга связана с оперативной памятью у людей.1155 обзор в журнале Frontiers in Systems Neuroscience .
«Мы знаем, что у других животных, вероятно, есть что-то [например, сознание], но у них нет того, что есть у нас, потому что мы разные», из-за этих различий в нервной анатомии, по словам Леду, написавшего «Глубокую историю Мы сами: четырехмиллиардная история о том, как мы получили сознательный мозг» (Викинг, 2019).
«Люди расстраиваются, когда вы так говорите… но никто не путает шимпанзе с человеком», — сказал он. Клеточный и молекулярный состав шимпанзе заставляет его выглядеть и действовать не так, как люди, поэтому само собой разумеется, что те же самые различия привели бы к тому, что сознание шимпанзе также было бы другим.
Связанный: Почему время летит незаметно, когда вам весело?
Некоторые исследователи идут еще дальше, утверждая, что сознание является настолько фундаментальным свойством материи, что даже электрон в определенной степени обладает сознанием. Эта позиция известна как панпсихизм. Кристоф Кох, президент и главный научный сотрудник Алленовского института изучения мозга в Сиэтле и сторонник панпсихизма, писал в журнале Scientific American , что «любая сложная система… ощущение, что это похоже на то, чтобы быть этой системой».
СВЯЗАННЫЕ ЗАГАДКИ
Может ли быть причиной опасность?
Шелленберг сказала, что, по ее мнению, многие животные обладают сознанием, потому что «все, что чувствует боль… обладает сознанием», сказала она, отметив, что это мнение противоречиво.
Точно так же Леду считает, что избегание опасности является важной функцией сознания и, возможно, причиной его существования.
«Все наши психические состояния, эмоциональные состояния не унаследованы от животных. Они формируются когнитивно, на основе нашего знания всего, что мы узнали о страхе и опасности в течение нашей жизни», — сказал он. По его словам, человеческий мозг организует множество информации в схемы, которые служат «шаблоном вашего сознательного опыта».
Они формируются когнитивно, на основе нашего знания всего, что мы узнали о страхе и опасности в течение нашей жизни», — сказал он. По его словам, человеческий мозг организует множество информации в схемы, которые служат «шаблоном вашего сознательного опыта».
Шелленберг, со своей стороны, не думает, что сознание — это главный вопрос, которым оно должно быть.
«Я один из тех, кто думает, что сознание не так уж интересно по сравнению с тем, почему наш разум и мозг могут делать то, что они делают», — сказал Шелленберг. «Мозг может, за множеством исключений, выполнять свою работу независимо от того, находится ли он в сознательном состоянии или нет».
Первоначально опубликовано на Live Science.
Грант Каррин — независимый научный журналист из Бруклина, Нью-Йорк, который пишет о «Маленьких тайнах жизни» и других темах для Live Science. Грант также пишет о науке и СМИ для ряда изданий, включая Wired, Scientific American, National Geographic, HuffPost и Hakai Magazine, а также является автором подкаста Discovery Curiosity Daily.


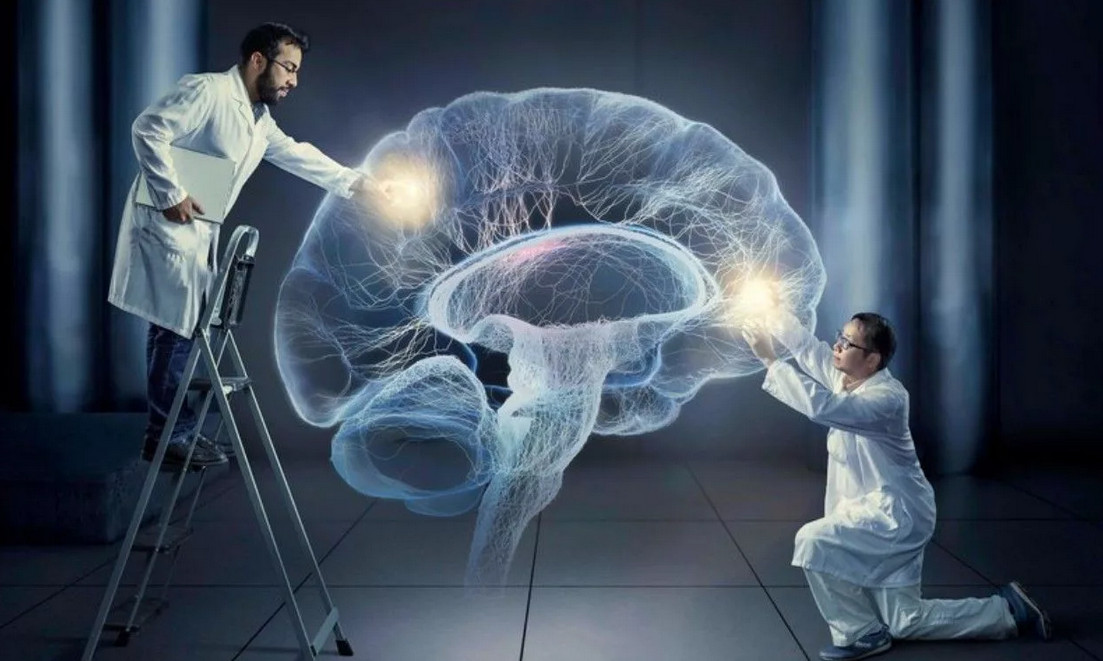 А.Ф. Грязнов. — М.: ДИК «Прогресс-Традиция», 1998. — С. 361–375.
А.Ф. Грязнов. — М.: ДИК «Прогресс-Традиция», 1998. — С. 361–375.



 Свои впечатления, слухи или мнение по этому поводу лучше оставить при себе. Это поможет не засорять информационное поле и не отдаляться от реальности.
Свои впечатления, слухи или мнение по этому поводу лучше оставить при себе. Это поможет не засорять информационное поле и не отдаляться от реальности.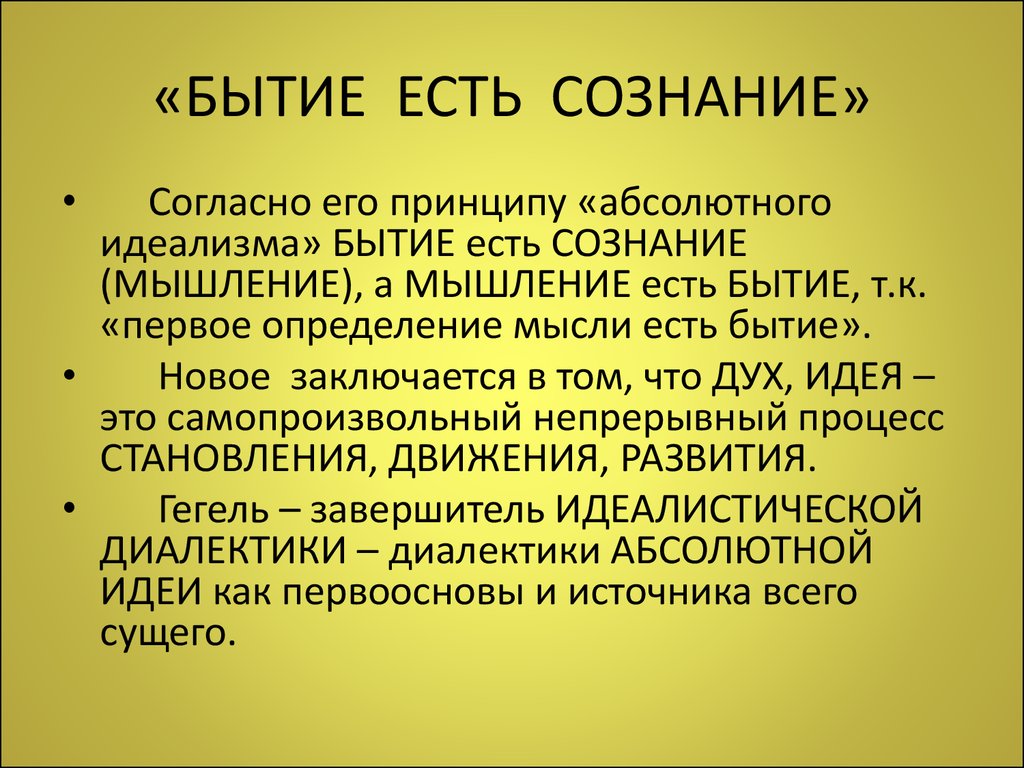
 Отслеживать негативные, осуждающие, оценочные мысли о самом себе и других.
Отслеживать негативные, осуждающие, оценочные мысли о самом себе и других.
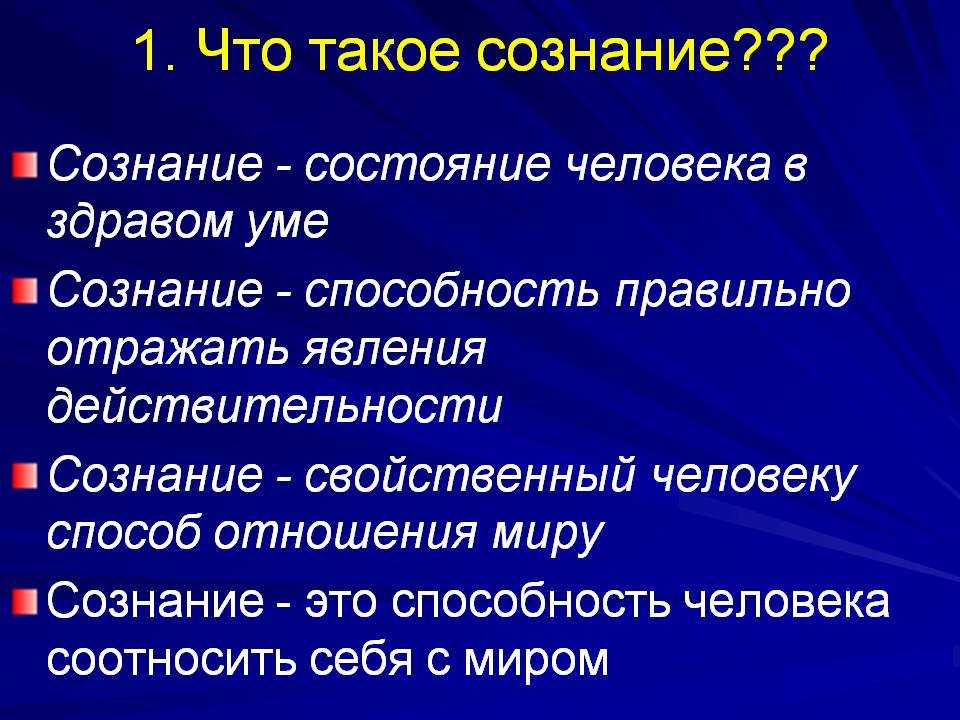 И улетели. Позже, может быть, два миллиона лет спустя, они пришли и снова посмотрели на нее и сказали: „Извините! Мы думали, что это просто куча камней, но эта штука заплодоносила людьми. Эта штука живая, она создало что-то, обладающее разумом“.
И улетели. Позже, может быть, два миллиона лет спустя, они пришли и снова посмотрели на нее и сказали: „Извините! Мы думали, что это просто куча камней, но эта штука заплодоносила людьми. Эта штука живая, она создало что-то, обладающее разумом“.