Арагон. Прорабы духа
Арагон
Арагон лежал навзничь на своей исторической кровати. Аристократическая голова с пигментными пятнами была закинута на подушки. Губы сжаты добела. Модные плечи его вечернего концертного пиджака недоуменно подняты. Еще не сложенные на груди, сухие, нервные кисти рук с рыжими волосинками, оправленные в белые манжеты, были выпростаны поверх покрывала. Они впились в простыню, как кисти пианиста хищно вжимаются в белую клавиатуру.
На осунувшемся и как бы помолодевшем лице застыло состояние напряженности и какого-то освобождения, будто он, прикрыв веки, прислушивается к чему-то неведомому еще нам.
Что за музыку нащупал он, что за вещий, скрытый от нас пока что смысл?
На правом безымянном пальце тяжелел перстень. В левой петлице мерцала овальная перламутровая брошь с вензелем «Э». Спинка кровати вплотную была придвинута к стене, где, как иконостас, были с давних пор приклеены им фотографии Маяковского, Асеева, Бурлюка и футуристов.
Всеобщего доступа к телу не было. Опасались провокаций. В пустынной спальне, в коридорах его палаццо стояла гулкая вековая тишина. Картины выходили из рам. Из-за окон доносилось беспечное парижское рождество.
Никого вроде рядом не было, но мне явственно виделась незримая шеренга фигур над его телом. Я видел, как пришли к нему на прощание его сородичи. Почетным караулом над ним застыли Ронсар, Нерваль, Элюар, Бретон, Матисс, Пикассо — вот-вот он к ним сейчас присоединится. И незримым конвейером примыкала к нему вереница еще живущих, но которые примкнут к ряду бессмертных, — шли Рицос, Рафаэль Альберти, Шагал, Маркес и иные, иные…
Все это навечно отпечаталось в моем мозгу, как словесный рисунок вертикально застывших великих имен. Горизонтально лежащее имя Арагона было как бы мостиком из жизни в небытие, из повседневности в бессмертие, посредником между этими великими, существующими в двух измерениях вереницами.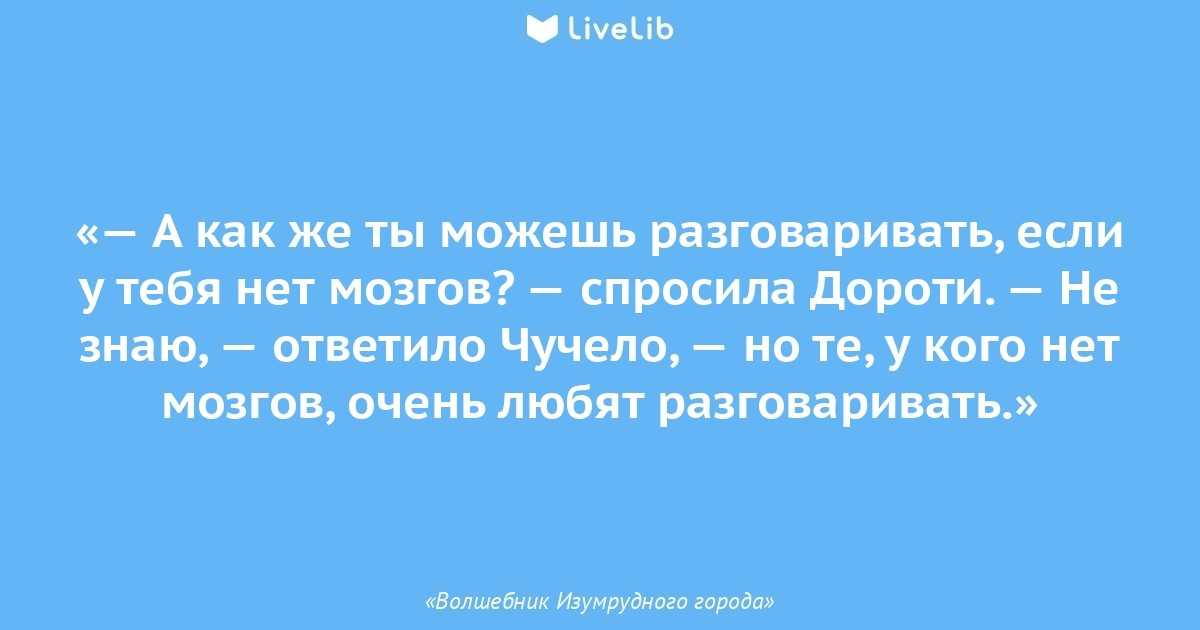
Об этом ощущении я написал в траурной «Юманите». Все газеты посвятили ему номера и полосы. «Монд» дала шапку: «Безумец века». Как и при жизни, его превозносили и освистывали. Странно было читать эту сладострастную брань над великим усопшим. Сейчас стало престижно его бранить. Но каждый француз, даже самый ругатель, просветлев, скажет, что Арагон — поэт нации, недосягаемый гений стихии слова. Давал ли поэт повод для нападок? Конечно, он не был безгрешен. Каюсь, я сам многое не понимал в нем и, по узости своих взглядов, не все принимал. Но он был Поэтом.
Народ грехи прощает за стихи,
грехи большие за стихи большие.
Как тут не вспомнить пушкинское: «Он так же подл, как и мы, так же низок… Врете!»
Я виделся с ним не раз, и в его седом палаццо на рю де Варени, и на Мельнице, и в Москве, и в предутреннем кафе с алой певицей, и на поэтических вечерах. От частоты встреч он как-то не приблизился. Между ним и вами вечно существовала дистанция, как стекло охраняет живописный шедевр.
Безотцовщина в нем мстила пресыщенному обществу, бросающему своих детей, у него, сына шефа парижской полиции и путаны, были свои счеты с временем, это было незатягивающимся черным провалом его сознания. Он вынужден был называть свою мать «сестрою», чтоб не компрометировать ее перед клиентами. Во время войны он получил телеграмму: «Ваша сестра умерла». Это была его мать.
Под конец жизни поэт обрел вторую молодость. Его белые кудри над черной фаустовской бархатной крылаткой и цветными чулками мотались по Елисейским полям, пугая ночных прохожих. Он подбегал ночью к статуям Майоля, млеющим на лунном газоне перед Лувром, пылко обнимал и чувственно целовал их. Обескураженный полицейский урезонивал: «Господин, по газонам ходить воспрещается». — «Ну погоди, — сверкал глазами безумец века, — через час ты сменишься на дежурстве, и я тогда поимею их всех».
Он много сделал для русской поэзии, перевел непереводимого «Онегина», что само по себе уже подвиг, устраивал вечера советских поэтов, под его безумным знаменем вышла лучшая антология русской поэзии. Он помогал Эльзе переводить «Озу». Он немного объяснялся по-русски, говорил вам «ты», что не вязалось с его подчеркнутым аристократизмом. «Володя», — называл он Маяковского, своего гениального родственника, которого пережил на пятьдесят лет.
В фигуре его была стрельчатая легкость. Буржуазный жир не отягощал его. «Главное, не надо есть после семи вечера, и плавать, плавать. Я плаваю часами в море», — заговорщически шептал он за обедом на кухне, щелчком сбивая пепел со значка Почетного легиона на лацкане.
Где вы плаваете сейчас, в каких измерениях?
Он остался в бессмертной стихии языка.
В дни траура в доме у переводчика русской поэзии Леона Робеля мы листали подаренное ему отцом собрание подпольных «Юманите» времен оккупации. Отпечатанные на машинке, на гектографе, на оберточной бумаге в переносных типографиях, эти пожухлые листки впервые принесли читателям стихи Арагона. Его псевдоним был «Франсуа Гнев». Гонораром за них могла быть только пуля, только этим чувством, ценой жизни проверяется подлинная поэзия. Не раз я видел, как он болел от бешенства, встречаясь с низостью.
Что писал он, ожидая еженощного звонка в дверь, скрываясь от слежки, пребывая в нелегальщине?
Он писал пронзительно светлые страницы о Матиссе. В них счастье чувства. Он был влюблен в Матисса, и эта влюбленность стала книгой.
Роман написан в темные годы, между арестами, бегством, страхом за жизнь, но стихия чувства — светла, именно она стала романом. Страницы этого волшебного текста светятся, слова смущенно сияют — это самое упоительное из его повествований. Когда страна его была порабощена, национальная честь попрана, он писал, он думал о наиболее французском изо всех живущих, ведь по чистоте и новизне взгляда Матисс — наиболее французский художник.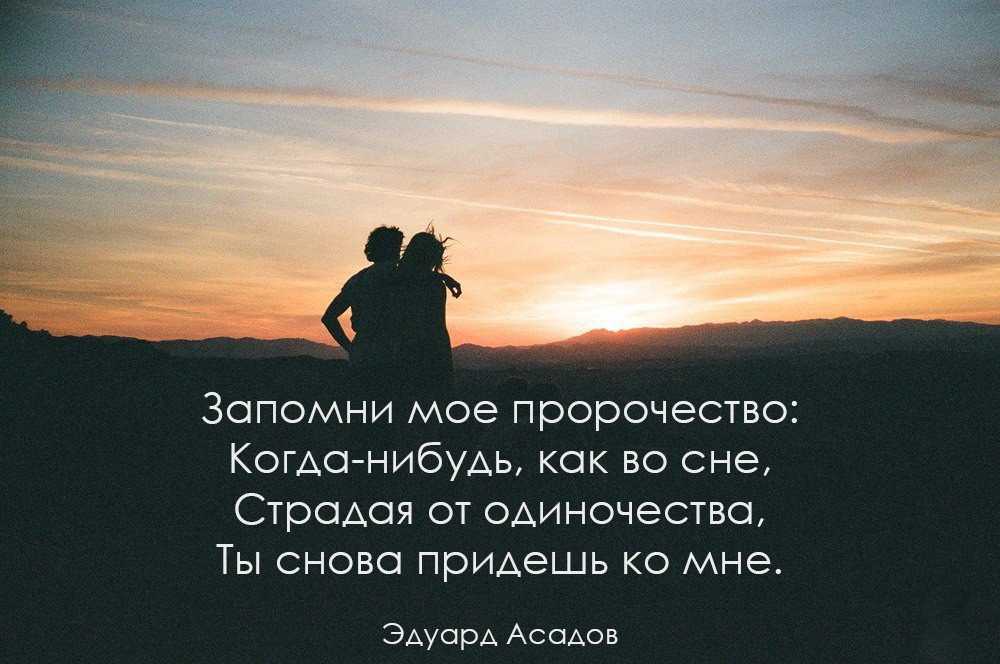 Матисс — Франция, цвета надежды.
Матисс — Франция, цвета надежды.
Странно это, но когда вам тоскуется, возьмите эту книгу — вы окунетесь в эти цветные страницы, написанные в страшные годы одиноким поэтом, вам полегчает, и сердце просветлеет. Я не знаю более счастливого из его романов.
Арагон захлебывается, некоторые слова он пишет по-русски: например, «современник» взято им у Лермонтова. Здесь дневниковый Арагон, без маски, без рамок, без наивного и мстительного театра, это обнаженная беззаветность чувства, поэт таков, каков он есть.
Для него Матисс — поэт, так же как Бодлер и Петрарка. Он яростно защищает Петрарку от гробокопателей, как себя защищает от прижизненных и посмертных мировых сплетников. Сам он, продолжая Блока и полемизируя с ним, ввел Прекрасную Даму в ежедневный быт. Проза поэта открывает внутреннюю стихию его, в ней упоение и отчаяние. Роман писался тридцать лет, прочитайте его, вы почувствуете истинного Арагона. Сегодня в нашем холодном веке чувство — редкий гость в литературе, порой лишь злость озаряет перо — это повесть безоглядной влюбленности, исповедь любви одного художника к другому, хотя их и разделяли десятилетия возраста.
Несколько раз он горько упоминает о друге юности: «Мы с Бретоном, мы с Бретоном…»— это повествование о страшных жерновах жизни, что их развели, сделали врагами.
Когда-то Андре Бретон, похожий на земноводного царя с великим, бронзово-жабьим и уже бабьим лицом, подарил мне антологию своей поэзии, избранную свою жизнь. Страницы этого тома цветные, каждая имеет свой цвет, они апельсиновые, васильковые, изумрудные, алые, золотые, иссиня-черные. То же ощущение от страниц арагоновского «Матисса». Поэт словом достигает цвета.
Нега, роскошь цвета — вот что он видит в Матиссе, все пронизано надеждой, если хотите, оптимизмом, в противоположность раздерганному одноцветному себялюбию.
Кто остался? Кто хранитель огня французской поэзии, этого волшебного сплетения музыки и цвета?
Может быть, Анри Мишо? Он самый крупный из живущих ныне поэтов. Ему около восьмидесяти. Он — поэт и художник, он только что закончил рукопись прозы, философской и лирической. Сейчас, отложив перо, он принялся вновь за живопись.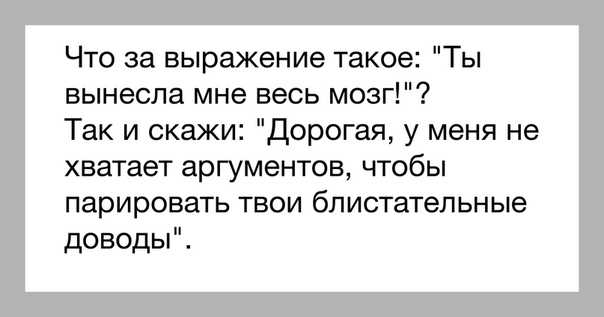 Родные его счастливы. Когда он пишет словом, он нелюдим, замкнут. Когда пишет кистью — общителен, солнечен, распахнут миру. На его картинах испаряются странные фигуры, похожие на буквы, тревожащая душу смесь людской толпы и толпы слов. Мишо и сам своим прозрачным пергаментным черепом и лицом похож на прозрачную акварель, наполненную светом. Его листы — переулки, запруженные толпой букв.
Родные его счастливы. Когда он пишет словом, он нелюдим, замкнут. Когда пишет кистью — общителен, солнечен, распахнут миру. На его картинах испаряются странные фигуры, похожие на буквы, тревожащая душу смесь людской толпы и толпы слов. Мишо и сам своим прозрачным пергаментным черепом и лицом похож на прозрачную акварель, наполненную светом. Его листы — переулки, запруженные толпой букв.
Но место Арагона свободно. Когда, пару недель спустя, «Юманите» напечатала отрывки из повести «О», в которой вспоминается об Арагоне, черные заглавные буквицы в центре полосы казались траурными венками ему.
Хоронили его на площади, как и надо хоронить великих поэтов. Неважно, как называется эта парижская площадь, в этот утренний час она была площадью Арагона. Десять тысяч людских голов, десять тысяч судеб пришли поклониться поэту — кто из европейских писателей знавал такое?
Стоял синий, пронзительно прохладный день.
Я глядел в эти тысячи лиц, плотно прижатых одно к другому, словно живой алый булыжник. Левые щеки и пол-лба у каждого были озарены розовым солнцем. Рядом на трибуне жалась Жюльетт Греко, в черной накидке и черной широкополой шляпе, с лицом, белым от белил и горя, похожим на маски арлекинов из фильмов Феллини.
Левые щеки и пол-лба у каждого были озарены розовым солнцем. Рядом на трибуне жалась Жюльетт Греко, в черной накидке и черной широкополой шляпе, с лицом, белым от белил и горя, похожим на маски арлекинов из фильмов Феллини.
Широкий ореховый гроб с четырьмя медными ручками был покрыт трехцветным национальным флагом. Делегаты держали на портупеях тяжеленные скорбные знамена регионов. Митинг открыл Жорж Марше. Премьер-министр Моруа, ежась без пальто, в своей речи помянул Маяковского. «Наверное, электробелье поддел», — шепнул мой сосед по трибуне. Потом звучали стихи Арагона. Площадь слушала их с непокрытыми головами.
В такт им покачивались в синеве два оранжевых строительных крана. Они продолжали работать.
Как на картинах-стихах Мишо, площадь была заполнена плотным людским взволнованным шрифтом, живыми розово-серыми фигурами-буквами. Эти слова, впитав строки поэта, потом медленно разбредались по улицам, мешались с деревьями, с прозаической толпой, забивались в потрепанные машины, забредали в кафе и в квартиры.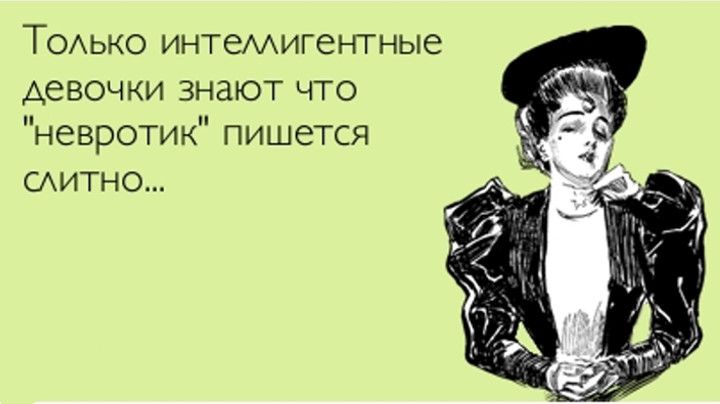 Поэзия становилась жизнью. Иных стихов ему и не требовалось.
Поэзия становилась жизнью. Иных стихов ему и не требовалось.
В моем сознании плутало созвучие «Арагон» и «огонь», но писать стихи я не стал. От этих дней осталась мгновенная зарисовка, строчки, написанные в его последней спальне, они, может быть, интересны как документальная фотография того, чему я был один из немногих свидетелей. Стихи эти вместе с моим рисунком напечатала «Монд». Робель сетовал потом, что «пятерня» в переводе превратилась в «ладонь», а «впиваются» перешли в «ударяют». Вот эти стихи.
Безумный аристократ,
бескрайна твоя кровать.
Прибит в головах плакат:
«Место не занимать».
И две твои пятерни,
еще не соединены,
впиваются в простыню,
как в клавиши пианист.
Какую музыку ты
нащупал, прикрыв глаза?
Свободно место твое.
Свобода — место твое.
Прощайте, последний поэтический безумец века! Стихийное безумство покидает нас.
Остаются рациональные сумасшедшие. Они подсчитывают процентные прибыли от глобального роста вооружений.
Это страшно. Мир погибнет без поэтического безумства.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Ледяное пламя. На виртуальном ветру [Maxima-Library]
Ледяное пламя
В июле 1997 года, шевеля усами, Режис Дебре, легендарный сподвижник Че Гевары, проведший годы в застенках, а ныне ставший философом телекоммуникаций, вспоминал, как он студентом протискивался на мой вечер в парижском театрике «Вье-Коломбье».
— Этот вечер был историческим для Парижа.
Я смущенно потупился.
— Да нет, — засмеялся он. — Я не умаляю ваших заслуг, конечно, но историческим событием было то, что в зале впервые находились вместе два великих врага и гениальных поэта, два былых друга — Бретон и Арагон. Троцкист и сталинист. До сих пор они не встречались.
Я помню, как в темном зале было два водоворота, как в омуте.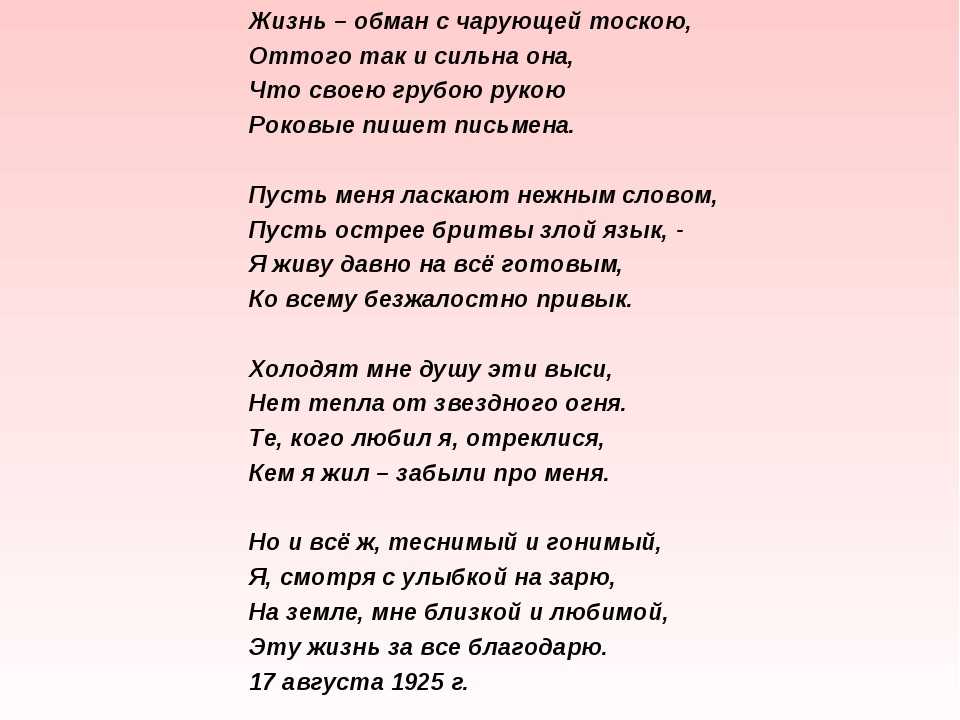 Если арагоновцы хлопали, то бретонцы — враждебно хранили молчание, и наоборот. Зал был похож на электробритву с двумя плавающими ножами.
Если арагоновцы хлопали, то бретонцы — враждебно хранили молчание, и наоборот. Зал был похож на электробритву с двумя плавающими ножами.
Перед смертью Арагон тосковал о друге. Но так и не удалось встретиться.
Арагон лежал навзничь на своей исторической кровати. Аристократическая голова с пигментными пятнами была закинута на подушки. Губы сжаты добела. Модные плечи его вечернего концертного пиджака недоуменно подняты. Еще не сложенные на груди, сухие, нервные кисти рук с рыжими волосинками, оправленные в белые манжеты, были выпростаны поверх покрывала. Они впились в простыню, как кисти пианиста хищно вжимаются в белую клавиатуру.
На осунувшемся лице застыло состояние напряженности и какого-то освобождения, будто он, прикрыв веки, прислушивается к чему-то неведомому еще нам.
Что за музыку нащупал он, что за вещий, скрытый от нас пока что смысл?
На правом безымянном пальце тяжелел перстень. В левой петлице мерцала овальная перламутровая брошь с вензелем «Э».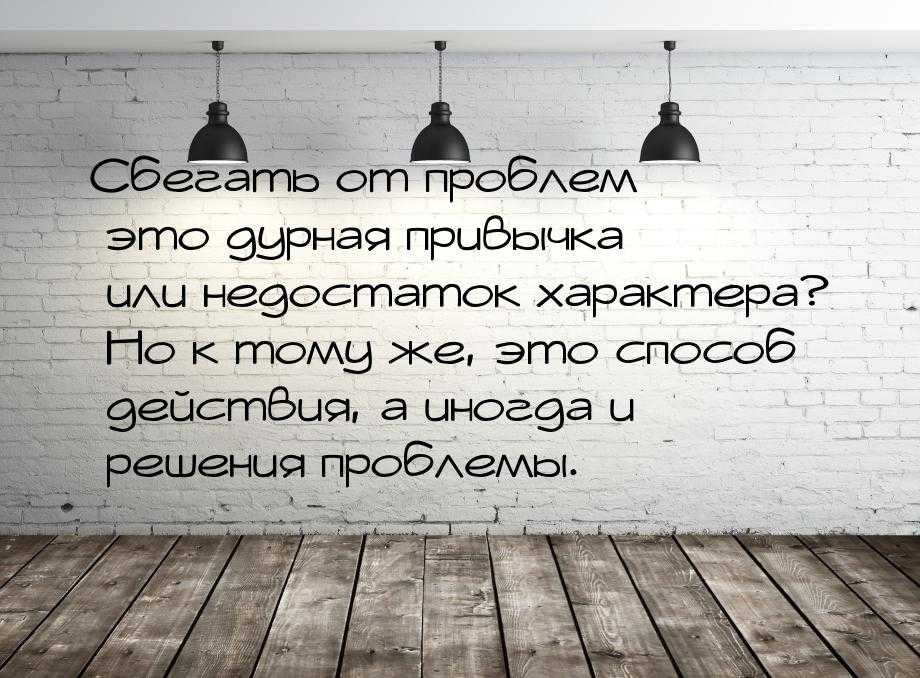 Спинка кровати вплотную была придвинута к стене, где, как иконостас, были с давних пор приклеены им фотографии Маяковского, Асеева, Бурлюка и футуристов. Прямо над затылком белела шутейно повешенная им табличка на русском: «Место не занимать». Повешенная над кроватью как постельный юмор, она приобрела сейчас смысл иной.
Спинка кровати вплотную была придвинута к стене, где, как иконостас, были с давних пор приклеены им фотографии Маяковского, Асеева, Бурлюка и футуристов. Прямо над затылком белела шутейно повешенная им табличка на русском: «Место не занимать». Повешенная над кроватью как постельный юмор, она приобрела сейчас смысл иной.
Всеобщего доступа к телу не было. Опасались провокаций. В пустынной спальне, в коридорах его палаццо стояла гулкая вековая тишина. Картины выходили из рам. Из-за окон доносилось беспечное парижское Рождество.
Все газеты посвятили ему номера и полосы. «Монд» дала шапку: «Безумец века». Как и при жизни, его превозносили и освистывали. Странно было читать эту сладострастную брань над великим усопшим. Сейчас стало престижно его бранить. Но каждый француз, даже самый ругатель, просветлев, скажет, что Арагон — поэт нации, недосягаемый гений стихии слова. Давал ли поэт повод для нападок? Конечно, он не был безгрешен. Каюсь, я сам считал его за ортодоксального сталиниста и, по узости своих взглядов, не все принимал. Но он был Поэтом.
Но он был Поэтом.
Народ грехи прощает за стихи,
грехи большие за стихи большие.
Я виделся с ним не раз, и в его седом палаццо на рю де Варенн, и на Монмартре, и в Москве, и в предутреннем кафе с алой певицей, и на поэтических вечерах. От частоты встреч он как-то приблизился. Между ним и вами вечно существовала дистанция, как стекло охраняло живописный шедевр. В белизне его головы и белков глаз, в нервной фигуре его была холодящая пылкость, какой-то ледяной огонь, была пузырящаяся горячность сухого льда.
Безотцовщина в нем мстила пресыщенному обществу, бросающему своих детей, у него, незаконного сына шефа парижской полиции и профессиональной путаны, были свои счеты с временем, это было незатягивающимся черным провалом его сознания. Он вынужден был называть свою мать «сестрою», чтоб не компрометировать ее перед клиентами. Во время войны он получил телеграмму: «Ваша сестра умерла».
Под конец жизни поэт обрел вторую молодость. Его белые кудри над черной фаустовской бархатной крылаткой и цветными чулками мотались по Елисейским полям, пугая ночных прохожих. Он подбегал ночью к статуям Майоля, млеющим на лунном газоне перед Лувром, пылко обнимал и чувственно целовал их. Обескураженный полицейский урезонивал: «Господин, по газонам ходить воспрещается». — «Ну погоди, — сверкал глазами безумец века, — через час ты сменишься на дежурстве, и я тогда перетрахаю их всех».
Он подбегал ночью к статуям Майоля, млеющим на лунном газоне перед Лувром, пылко обнимал и чувственно целовал их. Обескураженный полицейский урезонивал: «Господин, по газонам ходить воспрещается». — «Ну погоди, — сверкал глазами безумец века, — через час ты сменишься на дежурстве, и я тогда перетрахаю их всех».
У него в запасе была Вечность. В шутовстве этом, в буффонаде а-ля 20-е годы он хотел повернуть время вспять, будто снял деспотичное табу, будто расковался, но волчье одиночество проглядывало сквозь это ледяное какое-то безумство.
Он много сделал для русской поэзии, перевел непереводимого «Онегина», что само по себе уже подвиг, устраивал вечера советских поэтов, под его безумным знаменем вышла лучшая антология русской поэзии. Он помогал Эльзе переводить «Озу». Он немного объяснялся по-русски, говорил вам «ты», что не вязалось с его подчеркнутым аристократизмом. «Володя», — называл он Маяковского, своего гениального родственника, которого пережил на пятьдесят лет.
В фигуре его была стрельчатая легкость.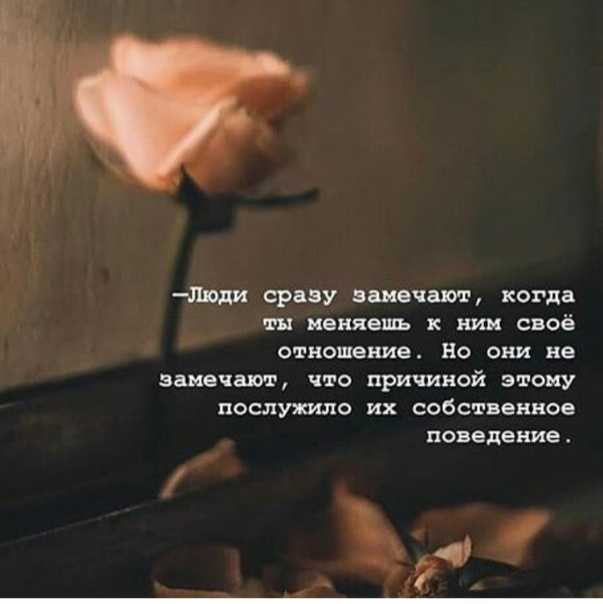 Буржуазный жир не отягощал его. «Главное, не надо есть после семи вечера, и плавать, плавать. Я плаваю часами в море», — заговорщически шептал он вам за обедом на кухне, щелчком сбивая пепел со значка Почетного легиона на лацкане.
Буржуазный жир не отягощал его. «Главное, не надо есть после семи вечера, и плавать, плавать. Я плаваю часами в море», — заговорщически шептал он вам за обедом на кухне, щелчком сбивая пепел со значка Почетного легиона на лацкане.
Где он плавает сейчас, в каких измерениях?
Он оставался в бессмертной стихии языка.
В дни траура в доме у переводчика русской поэзии профессора Сорбонны Леона Робеля мы листали подаренное тому отцом собрание подпольных «Юманите» времен оккупации. Отпечатанные на машинке, на гектографе, на оберточной бумаге в переносных типографиях, эти пожухлые листки впервые принесли читателям стихи Арагона. Его псевдоним был «Франсуа Гнев». Гонораром за них могла быть только пуля, только этим чувством, ценой жизни проверяется подлинная поэзия.
Не раз я видел, как он болел от бешенства, встречаясь с низостью.
— А я не хочу плясать гопачок! — кричал он так, что, наверное, в Москве слышал Хрущев.
Что писал он, ожидая еженощного звонка в дверь, скрываясь от слежки, пребывая в нелегальщине?
Он писал пронзительно светлые страницы о Матиссе. В них счастье чувства. Он был влюблен в Матисса, и эта влюбленность стала книгой.
В них счастье чувства. Он был влюблен в Матисса, и эта влюбленность стала книгой.
Роман написан в темные годы, между арестами, бегством, страхом за жизнь, но стихия чувства — светла, именно она стала романом. Страницы этого волшебного текста светятся, слова смущенно сияют — это самое упоительное из его повествований. Когда страна его была порабощена, национальная честь попрана, он писал, он думал о наиболее французском изо всех живущих, ведь по чистоте и новизне взгляда Матисс — наиболее французский художник. Матисс — Франция, цвет надежды.
Странно это, но, когда вам тоскуется, возьмите эту книгу — вы окунетесь в эти цветные страницы, написанные в страшные годы одиноким поэтом, вам полегчает, и сердце просветлеет. Я не знаю более счастливого из его романов.
Арагон захлебывается, некоторые слова он пишет по-русски: например, «современник» взято им у Лермонтова. Здесь дневниковый Арагон, без маски, без рамок, без наивного и мстительного характера, это обнаженная беззаветность чувства, поэт таков, каков он есть.
Для него Матисс — поэт, так же как Бодлер и Петрарка. Он яростно защищает Петрарку от гробокопателей, как себя защищает от прижизненных и посмертных мировых сплетников. Сам он, продолжая Блока и полемизируя с ним, ввел Прекрасную Даму в ежедневный быт. Проза поэта открывает внутреннюю стихию его, в ней упоение и отчаяние. Роман писался тридцать лет, прочитайте его, вы почувствуете истинного Арагона. Сегодня в нашем холодном веке чувство — редкий гость в литературе, порой лишь злость озаряет перо — это повесть безоглядной влюбленности, исповедь любви одного художника к другому, хотя их и разделяли десятилетия возраста.
Несколько раз он горько упоминает о друге юности: «Мы с Бретоном, мы с Бретоном…» — это повествование о страшных жерновах жизни, что их развели, сделали врагами.
Когда-то Андре Бретон, похожий на земноводного царя с великим, бронзово-жабьим и уже бабьим лицом, подарил мне антологию своей поэзии, избранную свою жизнь. Страницы этого тома цветные, каждая имеет свой цвет, они апельсиновые, васильковые, изумрудные, алые, золотые, иссиня-черные. То же ощущение от страниц арагоновского «Матисса». Поэт словом достигает цвета.
То же ощущение от страниц арагоновского «Матисса». Поэт словом достигает цвета.
Кто остался? Кто хранитель огня французской поэзии, этого волшебного сплетения музыки и цвета?
Толпа заполонила площадь.
Хоронили Арагона на площади, как и надо хоронить великих поэтов. Неважно, как называется эта парижская площадь, в этот утренний час она была площадью Арагона. Десять тысяч людских голов, десять тысяч судеб пришли поклониться поэту — кто из европейских писателей знавал такое?
Стоял синий, пронзительно прохладный день.
Я глядел в эти тысячи лиц, плотно прижатых одно к другому, словно живой алый булыжник. Левые щеки и поллба у каждого были озарены розовым солнцем. Рядом на трибуне жалась Жюльетт Греко, в черной накидке и черной широкополой шляпе, с лицом, белым от белил и горя, похожим на маски арлекинов из фильмов Феллини.
Широкий ореховый гроб с четырьмя медными ручками был покрыт трехцветным национальным флагом. Делегаты держали на портупеях тяжеленные скорбные знамена регионов. Митинг открыл Жорж Марше. Премьер-министр Моруа, ежась без пальто, в своей речи помянул Маяковского. «Наверное, электробелье поддел», — шепнул мой сосед по трибуне. Потом звучали стихи Арагона. Площадь слушала их с непокрытыми головами.
Митинг открыл Жорж Марше. Премьер-министр Моруа, ежась без пальто, в своей речи помянул Маяковского. «Наверное, электробелье поддел», — шепнул мой сосед по трибуне. Потом звучали стихи Арагона. Площадь слушала их с непокрытыми головами.
В такт им покачивались в синеве два оранжевых строительных крана. Они продолжали работать.
Как на картинах-стихах Мишо, площадь была заполнена плотным людским взволнованным шрифтом, живыми розово-серыми фигурами-буквами. Эти слова, впитав строки поэта, потом медленно разбредались по улицам, мешались с деревьями, с прозаической толпой, забивались в потрепанные машины, забредали в кафе и в квартиры. Поэзия становилась жизнью. Иных стихов ему и не требовалось.
В моем сознании плутало созвучие «Арагон» и «огонь», но писать стихи я не стал. От этих дней осталась мгновенная зарисовка, строчки, написанные в его последней спальне, они, может быть, интересны как документальная фотография того, чему я был одним из немногих свидетелей. Стихи эти вместе с моим рисунком напечатала «Монд». Робель сетовал потом, что «пятерня» в переводе превратилась в «ладонь», а «впиваются» перешли в «ударяют». Вот эти стихи:
Робель сетовал потом, что «пятерня» в переводе превратилась в «ладонь», а «впиваются» перешли в «ударяют». Вот эти стихи:
Безумный аристократ,
бескрайна твоя кровать.
Прибит в головах плакат:
«Место не занимать».
И две твои пятерни,
еще не соединены,
впиваются в простыню,
как в клавиши пианист.
Какую музыку ты
нащупал, прикрыв глаза?
Свободно место твое.
Свобода — место твое.
Прощайте, последний поэтический безумец века! Стихийное безумство покидает нас.
Это страшно. Мир погибнет без поэтического безумства.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Пламя
Пламя
В измятом холщовом пакете я получил наконец письмо. Часть пакета была залита дождем или волною. Почти полгода я ожидал это письмо. Пока шло мое. Пока шел ответ. Ответ, вероятно, был задержан ледоходом и весенней распутицей. Да и мог ли я ожидать ранее ответа на мои
Почти полгода я ожидал это письмо. Пока шло мое. Пока шел ответ. Ответ, вероятно, был задержан ледоходом и весенней распутицей. Да и мог ли я ожидать ранее ответа на мои
ПЛАМЯ
ПЛАМЯ …Над тушильной башней облака,Словно пух от белых лебедей.Над заводомВялый пар и буйный дым,Полной грудью дышит коксохим.Год тридцатыйПомню до сих пор:Надрывал «козлами» свои плечи,Котлован копал,ОгнеупорПоднимал для кладки первой печи.О былом забыть не
Пламя
Пламя Песок. Как же я рад, что иду по нему исключительно ради развлечения. Мои ступни погружаются в него, и с каждым шагом вверх я чуть-чуть сползаю вниз. Я чувствую, как под моими пальцами проминается земля. Она не такая теплая, как тогда, в Поющих дюнах Дуньхуана. Правда,
«Из пламя и света…»
«Из пламя и света…»
1Совсем немного воспоминаний о Лермонтове той поры, когда он вернулся из первой кавказской ссылки, и, как правило, они обычные, о внешнем, о пустяках: поэт не раскрывался никому, и подлинный его облик ускользал от посторонних, даже и пытливых взглядов.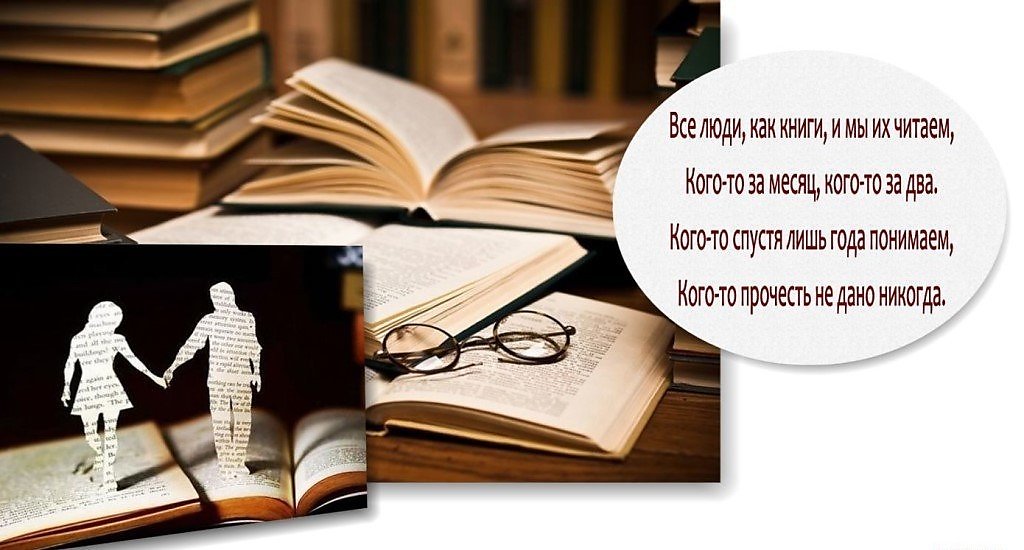
IX. ПЛАМЯ
IX. ПЛАМЯ «И так народ посполитий на Украине, послишавши о знесенню войск коронних и гетманов, зараз почали ся купити в полки, не только тие, которие козаками бывали, але кто и негди козацтва не знал»[81].В этих словах летописца хорошо передано настроение, охватившее все
Пламя Варшавы
Пламя Варшавы Уже несколько дней бомбовыми ударами поддерживаем пехоту, но по всему видно, что наше наступление выдыхается. Все яростней контратаки противника, все медленнее темп продвижения наших войск. Штабисты поговаривают о том, что передовым частям, возможно,
ЗАВЕЩАННОЕ ПЛАМЯ
ЗАВЕЩАННОЕ ПЛАМЯ
Растаяли снега. Зазеленели дубравы Тригорского и Михайловского. Легче стало отлучаться из поселка подальше, бывать в лесу. Деятельность подпольщиков группы Виктора Дорофеева с приходом весны оживилась.Как-то за неизменной игрой в карты Дорофеев
Деятельность подпольщиков группы Виктора Дорофеева с приходом весны оживилась.Как-то за неизменной игрой в карты Дорофеев
ПЛАМЯ НАД ПЕРЕКОПОМ
ПЛАМЯ НАД ПЕРЕКОПОМ Вместо пролога Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский. Лев Толстой. — Мишка! Смотри слева! Слева-а-а!..Крик ударяет в наушники.Стремительно оглядываюсь.Кажется, уже поздно: от «мессера» тянутся
СКВОЗЬ ДЫМ И ПЛАМЯ
СКВОЗЬ ДЫМ И ПЛАМЯ За Родину! Закавказье уже спалено летними жарами, мы ползем с медленностью классического Bummelzug — «Осетинской молнии». Уже миновали Дербент, «Железные ворота», уже повернули на Ростов. Пожелтелые поля, повыжженные степи… Простились с вами, милые горы,
Пламя над берегом
Пламя над берегом
В те дни началась эпопея Малой земли. Высадившись в тылу врага, горстка черноморцев «заявила о себе», как выразился Алексеев, «столь громко», что о ней сразу заговорила страна.Им было туго… Очень туго…Военный совет 18-й армии выступил с обращением к
Высадившись в тылу врага, горстка черноморцев «заявила о себе», как выразился Алексеев, «столь громко», что о ней сразу заговорила страна.Им было туго… Очень туго…Военный совет 18-й армии выступил с обращением к
ПЛАМЯ ГВОЗДИКИ
ПЛАМЯ ГВОЗДИКИ В воскресенье, 30 марта, когда еще первый солнечный луч не коснулся Белоянниса, лежавшего с простреленной грудью на окровавленной земле в Гуди, у подножия горы Имиттос, ротационные машины афинских типографий печатали столичные газеты с сообщением во всю
11. Сквозь пламя
11. Сквозь пламя Ландыши обычно цветут в мае. А в тот год весна запоздала. И лето началось с холодов. Но девушки шили белые платья, молодые люди утюжили белые брюки. Белый цвет был самым модным. Утром Таня Чудакова с теткой Натальей (так она называла свою любимую тетю Наталью
Когда я не тоскую по Богу
Когда я не тоскую по Богу
17 февраля 2021 г.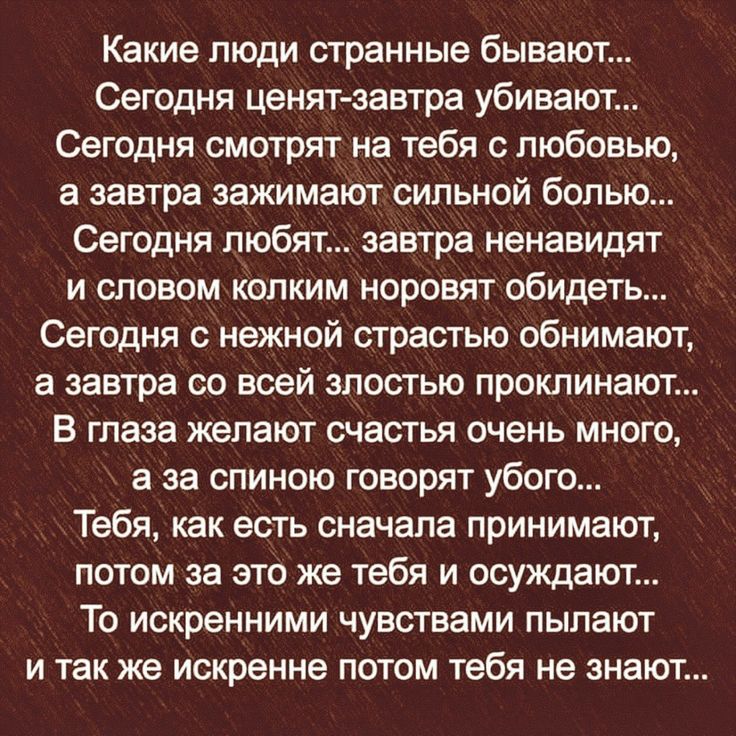
Чери Стрэндж
Когда я не тоскую по Богу
Чери Стрэндж, доктор философии.
Добро пожаловать в подкаст Stirring FaithПривет. Мы хорошо в этом 4-м сезоне подкаста. И я не мог быть счастливее, что вы здесь. Я надеюсь, что вы смогли присоединиться ко мне в наших первых двух эпизодах. Если нет, вы можете проверить первый здесь и второй здесь. На что похоже стремление или желание Бога? Можем ли мы? Как мы растем на этой арене и что, если мы не тоскуем? Теперь это огурец. И именно здесь многие люди находят себя. Что, если я не тоскую по Богу? Это настоящий вопрос, который заслуживает внимания и продуманного ответа. Это именно то, что мы стремимся предложить в сегодняшнем выпуске.
(ПРИМЕЧАНИЕ: см. два ресурса, на которые мы ссылаемся внизу этого поста.)
Но ваше личное исследование так важно. Мы создали несколько дополнительных ресурсов, которые будут сопровождать вас во время работы над этой серией.
Мы создали несколько дополнительных ресурсов, которые будут сопровождать вас во время работы над этой серией.
Она тоскует по плану чтения
Получите БЕСПЛАТНО ЗДЕСЬ — чтобы продолжить эту серию. В нем вы найдете Она тоскует по 30-дневному плану чтения , графику написания Священных Писаний и журналу для загрузки. Просто укажите свой адрес электронной почты. (И если вы уже присоединились к сообществу She Yearns, вы можете найти его на странице Facebook только для сообщества.)
И пока вы на этой странице — не забывайте о The Show Notes.
Просто заполните форму, и вы начнете получать последние заметки прямо на свой почтовый ящик. Как правило, они попадают в ваш почтовый ящик к концу недели ПОСЛЕ выхода эпизода в эфир.
Насколько круто показывать заметки?
Если вы уже являетесь подписчиком сообщества She Yearns , вы можете получить ссылку на PDF-файл.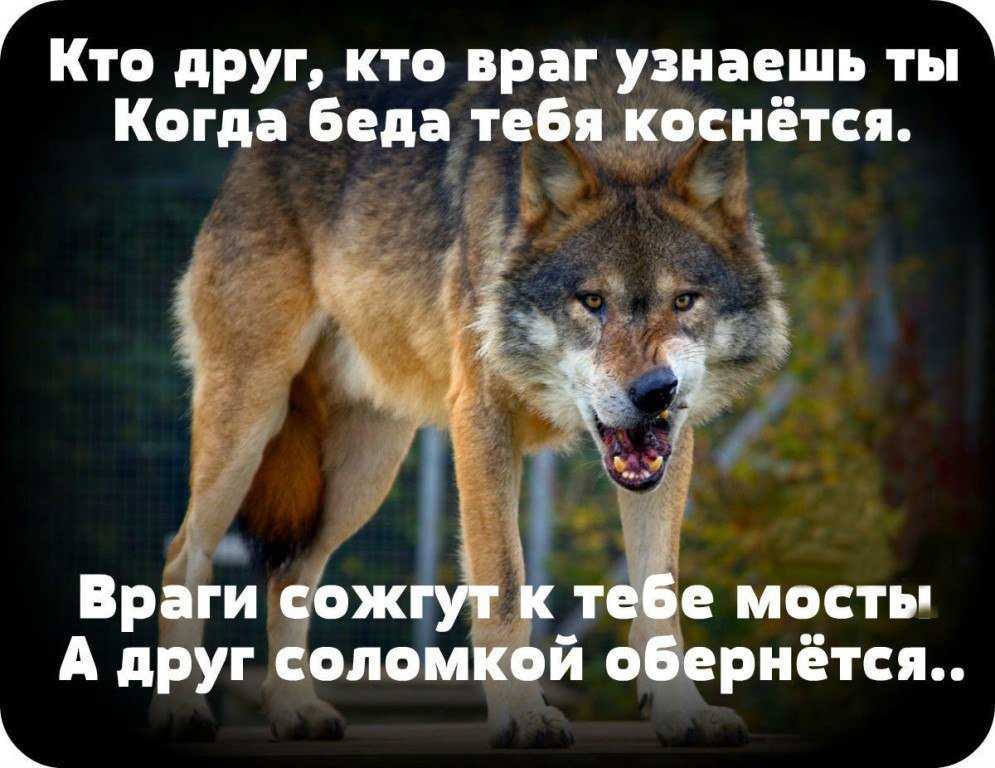 Но это другое. Зарегистрировавшись здесь, вы ТОЛЬКО ПОЛУЧАЕТЕ Show Notes для подкаста. Нечего скачивать, если не предлагается какой-то бонус.
Но это другое. Зарегистрировавшись здесь, вы ТОЛЬКО ПОЛУЧАЕТЕ Show Notes для подкаста. Нечего скачивать, если не предлагается какой-то бонус.
Вы также можете использовать этот ресурс, чтобы взять с собой кофе с другом или посидеть с небольшой группой и обсудить тему вместе. Это быстрый способ провести более глубокое обсуждение актуальных евангельских тем, которые важны для вашей повседневной жизни. Так что не ждите! Зарегистрироваться Сегодня. Если вам понравился сегодняшний выпуск, Когда я не тоскую по Богу , Радость в трудных вещах — действительно подходящий эпизод для того, что мы переживаем прямо сейчас. Вы можете найти его здесь, если вам интересно.
Послушайте: что, если я не буду тосковать по Богу
Теперь вы можете просматривать последние выпуски из i Tunes, GooglePlay, Stitcher, iHeartRADIO или BuzzSprout . Просто кликните на ссылки ниже! Как всегда, вы можете прокрутить вниз и послушать прямо здесь!
И если вы еще не стали подписчиком подкаста, позвольте мне пригласить вас стать подписчиком She Yearns Podcast , перейдя к любому из провайдеров и подписавшись на RSS-канал, чтобы он автоматически обновлялся на ваше устройство! Это в основном ОДИН КЛИК! И это не требует дополнительной памяти и действительно облегчает жизнь.
Если вам понравился этот выпуск, Когда я не хочу God или сочтите это полезным, , пожалуйста, оставьте комментарий или отзыв в службе вашего хостинг-провайдера. Без вас нам не справиться! Единственный способ, которым слово выходит дальше, — с вашей помощью. Пожалуйста, поделитесь им, как вы чувствуете себя ведущим.
Дополнительные ресурсы для этого эпизода:
Когда я не желаю Бога: борьба за радость , Джон Пайпер
Духовная депрессия: причины и лечение , Мартин Ллойд Джонс
Спасибо за внимание,
почему мы тоскуем — Мэри Ретта
I.
Я тосковал до того, как понял, что это значит, до covid-19, до того, как мем конкретно нормализовал отдаленное недовольство, которое я очень старался подавить. Я думаю, в некотором смысле, мы все были. Поэтому в начале февраля, когда моя подруга ответила на мою историю в Instagram, что она «стремится снова оказаться в моих объятиях», а затем несколько умоляющих смайликов, я не очень растерялась. Я никогда раньше не видел, чтобы этот язык использовался так небрежно, и смайлики были еще довольно новыми для меня в то время, но что-то внутри меня врожденно понимало связь между глупым, чрезмерно драматичным цифровым предложением моей подруги и ее искренними эмоциями. Когда я ответил, я сказал ей, что тоже тоскую по ней. Я отправил те же смайлики обратно, не задумываясь дважды.
Я думаю, в некотором смысле, мы все были. Поэтому в начале февраля, когда моя подруга ответила на мою историю в Instagram, что она «стремится снова оказаться в моих объятиях», а затем несколько умоляющих смайликов, я не очень растерялась. Я никогда раньше не видел, чтобы этот язык использовался так небрежно, и смайлики были еще довольно новыми для меня в то время, но что-то внутри меня врожденно понимало связь между глупым, чрезмерно драматичным цифровым предложением моей подруги и ее искренними эмоциями. Когда я ответил, я сказал ей, что тоже тоскую по ней. Я отправил те же смайлики обратно, не задумываясь дважды.
Тоска, как в традиционном, так и в современном понимании, — это ощущение искренней или даже болезненной тоски по чему-то или кому-то. Хотя этот термин возник до 12 века, он пережил две волны возрождения: в популярной литературе 18 и 19 веков такими творческими женщинами, как Вирджиния Вулф и Луиза Мэй Олкотт, и в Интернете в 2020 году. Хотя может показаться странным, что термин «счастливо дома» в романе Джейн Остин теперь стал обычным явлением в нашем современном английском языке, он также устрашающе подходит.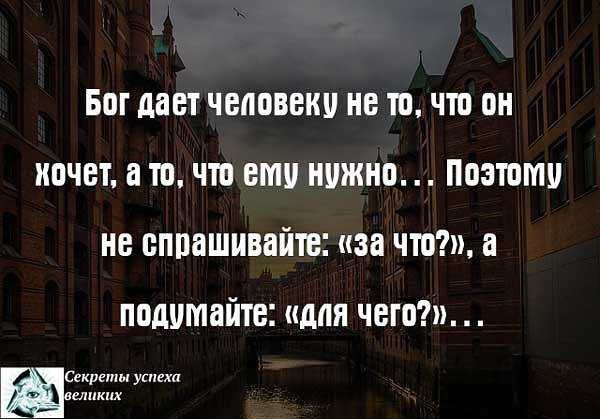 Как и женщины в этих романах, я тоже обнаружил, что в эти дни больше, чем когда-либо, поглощен обширной, но всепоглощающей тоской. Это ощущение настолько специфично для наших потребностей в данный момент, что его нужно было воскресить из мертвых.
Как и женщины в этих романах, я тоже обнаружил, что в эти дни больше, чем когда-либо, поглощен обширной, но всепоглощающей тоской. Это ощущение настолько специфично для наших потребностей в данный момент, что его нужно было воскресить из мертвых.
Легко предположить, что этот язык — просто реакция на наши новые социальные обстоятельства в условиях коронавируса, но я считаю, что это чрезмерное упрощение. Хотя сегодня слово «тоска» является, пожалуй, самым распространенным, оно является одним из многих устаревших и чрезмерно приторных терминов, которые в последние годы вновь появились в нашем повседневном лексиконе. Примерно с 2018 года такие слова, как «нежный», «серьезный», «полезный» и «мягкий», также стали популярными в разговорах, демонстрируя коллективное стремление к простой сладости, которая сегодня редко встречается. Вездесущность этих терминов может означать нормализацию стремления к мягкости, но этот язык также самосознателен. Мы желаем нежности и значимой связи, но также понимаем, что этого недостаточно.
Вещи, к которым я стремлюсь больше всего — лежать на солнце и есть фрукты с друзьями, выключать телефон, чтобы насладиться хорошей книгой, — остаются неизменными уже много лет. Это простые удовольствия. Вещи, на которые, как я знаю, у меня должно быть время и место часто, но я также считаю роскошью то, что должно быть зарезервировано для моих грез наяву, за исключением редких, заветных случаев.
II.
Чтобы понять современное культурное значение тоски, важно разобраться в истории этого термина. Хотя слово «тоска» может использоваться для описания глубокого желания практически чего угодно, оно традиционно относится к сильному стремлению к привязанности, близости, партнерству или любви. Так же, как само слово устарело, тип любви, обычно ассоциируемый с ним, представляет собой более традиционное, моногамное, долгосрочное партнерство. Ощущение также исторически было женоподобным. В ней 1913 романа «Волны», например, Вирджиния Вульф пишет о женщине, тоскующей по далекому возлюбленному: «Я осуждаю тебя. И все же мое сердце стремится к тебе. Я бы прошел с тобой через пламя смерти», улавливая цихетеронормативные романтические идеалы, связанные с этим термином до его недавнего возрождения.
И все же мое сердце стремится к тебе. Я бы прошел с тобой через пламя смерти», улавливая цихетеронормативные романтические идеалы, связанные с этим термином до его недавнего возрождения.
В 2020 году коннотации тоски, а также то, к чему мы стремимся, выглядят совсем по-другому. Сегодня это слово чаще всего ассоциируется с интимностью, роскошью, отдыхом или комфортом, а не исключительно с романтикой. любитель вернуться с войны. Во многом этот сдвиг свидетельствует о широкомасштабном изменении приоритетов наших поколений в партнерских отношениях и образе жизни. Женщины в 20-м веке были приучены отдавать предпочтение браку и другим романтическим занятиям над большинством других аспектов своей жизни. Между тем миллениалы женятся позже, чем любое другое поколение до них, и многие предпочитают вообще не жениться. Платоническая близость, или приоритет любовной дружбы над романтическими или сексуальными отношениями, в последнее время также стала более популярной идеологией, особенно среди женщин и квир-людей. Я сам посылаю музыку своим друзьям почти каждый день, мечтая о том времени, когда нас не разделят шесть футов или часовые пояса, когда мы сможем расслабиться и слушать песни вместе.
Я сам посылаю музыку своим друзьям почти каждый день, мечтая о том времени, когда нас не разделят шесть футов или часовые пояса, когда мы сможем расслабиться и слушать песни вместе.
Но это изменение в определении связано не только с тем, как мы смотрим на наши отношения; то, к чему мы стремимся больше всего, в конечном счете определяет то, как мы представляем себе наш идеальный образ жизни. Наше глубокое и неудовлетворенное желание проводить больше времени с друзьями, отключаться от сети, нежиться весь день на солнце представляет собой стремление к жизни, в которой мы можем проводить свое время свободно. Тот, в котором мы не беспокоимся о деньгах или работе, где мы можем сосредоточиться на вещах, которые действительно важны и приносят нам удовлетворение или радость. Хотя тоска когда-то была сенсацией, сегодня она превратилась в структуру: ту, которая выступает за удовольствие, против работы и стремится представить себе более мягкое и более полноценное будущее.
В слове «тоска» присутствует одновременно слой стыда и уровень покорности невозможному; мы можем стремиться к вещам, которые кажутся недосягаемыми, но мы стремимся к вещам, которых не должны хотеть или не можем иметь. Удовольствие, отдых и человеческое общение имеют фундаментальное значение для нашего выживания и противоречат самому нашему образу существования. В нашей стремительной и часто сосредоточенной на работе жизни у нас редко есть время заниматься хобби, должным образом заботиться о своих близких или создавать вещи, которые не приносят дохода, — и когда мы это делаем, мы вынуждены чувствовать себя виноватыми. Таким образом, из-за нашего постоянного стремления мы не только жаждем конкретных людей или материальных вещей, мы желаем, чтобы сами условия нашей жизни изменились.
Удовольствие, отдых и человеческое общение имеют фундаментальное значение для нашего выживания и противоречат самому нашему образу существования. В нашей стремительной и часто сосредоточенной на работе жизни у нас редко есть время заниматься хобби, должным образом заботиться о своих близких или создавать вещи, которые не приносят дохода, — и когда мы это делаем, мы вынуждены чувствовать себя виноватыми. Таким образом, из-за нашего постоянного стремления мы не только жаждем конкретных людей или материальных вещей, мы желаем, чтобы сами условия нашей жизни изменились.
III.
Когда я слышу слово «тоска», первое изображение, которое приходит на ум, — это смайлик с умоляющим лицом, который я также назвал смайликом тоски. Смайлик, который в настоящее время является третьим по популярности в Твиттере, говорит очень много, но не говорит вообще ничего. Emojipedia описывает эмодзи тоски как «желтое лицо с нахмуренными бровями, небольшим хмурым взглядом и большими щенячьими глазами», что «также может означать обожание или чувство прикосновения любящего жеста». Смайлик — это набор противоречий — одновременно радостный и грустный, довольный и желающий большего. Его нынешняя популярность в социальных сетях говорит о том, что мы тоже испытываем этот спектр эмоций с беспрецедентной частотой.
Смайлик — это набор противоречий — одновременно радостный и грустный, довольный и желающий большего. Его нынешняя популярность в социальных сетях говорит о том, что мы тоже испытываем этот спектр эмоций с беспрецедентной частотой.
Что еще больше отличает наши тоскующие поколения от поколений женщин 20-го века, так это изобретение Интернета, который вынес все наши эмоции на публичный форум. Героиня романа Вульф втайне тосковала по далекому возлюбленному; содержание ее внутреннего желания было доступно нам только через авторскую прозу. Между тем, мы не только ожидаем, что будем тосковать публично в Интернете, но и благодаря изобретениям, таким как смайлик с умоляющим лицом, нас поощряют к этому. Я редко ловлю себя на том, что использую такие выражения, как «нежный» и «мягкий», когда говорю вслух; эти слова более или менее были зарезервированы для твитов, сообщений любимому человеку или комментариев к посту друга в Instagram. Хотя, конечно, я нахожу своих друзей прекрасными и вне сети, в Интернете есть что-то, что заставляет нас эстетизировать наши эмоции таким образом, который в противном случае казался бы неестественным.
В каком-то смысле тоска кажется просветленной — те, кто способен публично выражать свои эмоции, по-видимому, хорошо приспособлены и соприкасаются со своими чувствами. Но, безусловно, интересно, что ощущение тоски, вызывающее чувства ностальгии и старомодной чистоты, чаще всего имеет место на технологиях нового века. Есть что-то неладное в том, как мы приравниваем способность создавать онлайн-эстетику мягкости к реальному ощущению мягкости. Эстетика тоски, которую я бы охарактеризовал как частое использование таких выражений, как «нежный» и «полезный» в Интернете, а также регулярное использование милых смайликов, также позволила нам придать уязвимости способность воспроизводить определенный язык в сети. социальные медиа. Эта ассоциация между публичной серьезностью в Интернете и определенным моральным превосходством или более высоким эмоциональным интеллектом может быть опасной, поскольку она стирает изначальную цель стремления — улучшить материальные условия нашей жизни в автономном режиме.
Если мы согласимся с тем, что тоска — это скорее структура, чем ощущение, логично предположить, что у нее есть и конечная цель. Для многих мы стремимся осознать, чего не хватает в нашей жизни, чтобы мы могли представить себе более светлое и полное будущее. Эстетика милая, а интернет — отличный инструмент для тоски, но он также может отвлекать.
IV.
С самого детства я всегда был большим мечтателем. Я мечтал путешествовать по миру, написать роман, иметь домик где-нибудь на берегу. Даже сейчас, когда с каждым днем сохранять надежду на будущее становится все труднее, мне каким-то образом удается держаться за большинство своих мечтаний. Мечтать удобно; я думаю, что со временем я смогу добиться всего, чего хочу. Но мечтание отличается от стремления; мы мечтаем о вещах, которые кажутся большими, далекими, невероятными; мы жаждем вещей, которые должны быть в пределах досягаемости. Поэтому, когда мы все еще не можем достичь этих маленьких, простых фантазий, мы чувствуем себя еще более ограбленными.
Над тоской легко подшутить, а еще легче отмахнуться от нее — язык банальный, а смайлики откровенно нелепые. Что менее просто, так это признать, что тоска — смелая и трудная задача; требуется мужество, чтобы признать, чего вам не хватает в жизни, и это акт редкого воображения, чтобы представить себе мир, в котором все ваши потребности удовлетворяются, когда вы знали только жизненные обстоятельства бремени или дефицита. Еще в феврале, когда мой друг и я сказали, что очень хотим снова увидеть друг друга, это не было ложью, но мы так и не сделали этого. Потому что чего мы действительно жаждали, так это того, чтобы меньше отвлекаться на учебу, чтобы мы могли взять выходной, меньше волноваться о деньгах, чтобы кто-то из нас мог купить билеты на самолет, и меньше заботиться о поиске работы, чтобы мы могли наслаждаться обществом друг друга. Печальная правда в том, что даже если covid-19если бы этого не произошло, прошла бы еще минута, прежде чем я смог бы лично увидеть своего друга. Еще в феврале и сегодня мы оба были ограничены сообщениями в Instagram и дрянными смайликами, мечтая о том дне, когда мы сможем жить в мире, который, наконец, позволит нам получать удовольствие.
